Исповедь убийцы - [25]
Итак, мы оставили Москву и прибыли на границу. Именно в тот момент, когда мы ее пересекали, до меня вдруг дошло, что если я быстро что-нибудь не придумаю, то потеряю Лютецию. А что я мог придумать? Что мог придумать погибший человек моего склада, имевший самую гадкую из всех возможных профессий. Ах, друзья мои, у такого человека нет крылатой божественной фантазии влюбленного. Человек моей породы наделен приземленной фантазией полицейского. Любимую женщину он преследует с помощью средств, предоставленных его ремеслом. Даже страсть не смогла облагородить такого человека, как я. Злоупотребление властью — вот наш принцип! И, Бог свидетель, — я ею злоупотребил.
На границе я подал знак одному моему коллеге, и он меня сразу понял. Вы помните, друзья мои, что тогда представляла собой русская граница. Это не была граница могущественной царской империи. Скорее это была граница нашего произвола, произвола русской полиции. Царская власть имела свои пределы даже в царском дворце. Но наша власть, власть полиции, прекращалась только на границе империи, а часто — и вы об этом скоро услышите — далеко за ее пределами. Любому полицейскому доставляет огромное удовольствие видеть перед собой дрожащего от страха невинного человека или угождать сослуживцу. Наконец, совершенно особое удовольствие он испытывает, если ему доведется ввергнуть в ужас какую-нибудь молодую красивую женщину. Это, друзья мои, особый вид полицейской эротики.
Итак, мой коллега сразу же понял меня. Я на некоторое время исчез, притаившись в полицейском кабинете. Известный портной и его дамы должны были подвергнуться одной неприятной проверке, и никакие заверения и даже упоминания высоких покровителей не помогли бы портному ее избежать. На границе просто-напросто никто не понимал французского. Напрасно он несколько раз взывал ко мне, князю Кропоткину. Хотя в стене между кабинетом и таможенным помещением располагалось маленькое окошко, устроено оно было так, что я мог его видеть, а он меня — нет. Я для него был безвозвратно потерян. Я видел, как важный и в то же время беспомощный, надменный и одновременно испуганный, гордый как петух, трусливый как заяц и глупый как осел, он метался посреди взволнованной толпы своих красоток. Это, признаюсь, порадовало меня. Но вообще мне было не до него, я ведь любил Лютецию! Таким уж, друзья мои, я уродился. Я сам часто не понимаю, что я за человек…
Но не это главное. Главным было то, что неожиданно, благодаря товарищеской помощи нашего сотрудника на границе, в чемодане Лютеции был обнаружен револьвер. Шаррон растерянно забегал, он звал меня, выкликивая мое имя, как заклинают Господа, но я не показывался. Через потайное окошко я — довольный и ничтожный, Бог и провокатор — видел бледную, беспомощную Лютецию. Она сделала то, что в подобной ситуации делают все женщины: она заплакала. И я вспомнил, что примерно две недели назад через похожее окошко я видел ее счастливую и смеющуюся в объятьях молодого Кропоткина. О, я не забыл этот особенный смех! И так как, друзья мои, я был подлецом, то почувствовал удовлетворение. Поезд может подождать, подождать два, три часа! Я не спешил.
Наконец, когда все это зашло уже так далеко, что плачущая Лютеция молча повисла на шее портного, а все остальные девушки, обступив их, дрожали, когда дело приняло опасный оборот, а все происходящее стало напоминать бойню, встревоженный птичий двор и одновременно романтическое приключение некого портного, на сцене появился я. Поклонившись, мой коллега тут же выпалил:
— Ваше высокоблагородие, к вашим услугам!
— А что здесь вообще происходит? — не глядя на него и ни на кого другого, спросил я.
— Ваше высокоблагородие, в чемодане одной дамы обнаружен револьвер.
— Это мой револьвер. Я охраняю этих дам.
— Как прикажете! — сказал служащий.
И мы сели в поезд.
Само собой разумеется, что едва мы вошли, как теперь уже портной повис на моей шее.
— А кто, собственно, эта дама с револьвером? — спросил я.
— Одна невинная девушка, я ничего не понимаю… — начал Шаррон.
— Я хотел бы с ней поговорить, — сказал я.
— Сию минуту. Я сейчас ее к вам приведу.
Он привел ее и тут же ушел. Мы были одни, Лютеция и я.
Вечерело. Набирая скорость, поезд шел сквозь сгущающиеся сумерки. Меня удивило, что она меня не узнала. Все указывало на то, как мало у меня времени для достижения главной цели. Поэтому мне показалось уместным тут же спросить, где же сейчас мой револьвер.
Вместо того чтобы просто ответить, а это все-таки еще было возможно, Лютеция бросилась в мои объятья.
Я посадил ее к себе на колени, и в темноте вечера, проникающего к нам сквозь окна купе, началось… Больше не было вечера, а были лишь те ласки, которые вы, друзья мои, знаете и которые так часто предваряют катастрофу нашей жизни.
Дойдя до этого места, Голубчик надолго замолчал. Нам показалось, что он молчал очень долго, еще и потому, что он ничего не пил. Он вроде бы и не замечал своего стакана, и потому все мы от смущения и скованности лишь слегка прикасались губами к своим. Его молчание как бы имело двойной смысл. Человек, прервавший свое повествование и не подносящий к губам свой стакан, пробуждает в слушателях какую-то странную подавленность. Мы все почувствовали себя неловко. Стесняясь смотреть Голубчику в глаза, мы тупо пялились на наши стаканы. Если б хотя бы тикали часы! Но нет! Ни тиканья часов, ни жужжания мухи, ни проникающего через тяжелые металлические жалюзи уличного шума — ничего. Словно в смертельной тишине мы были брошены на произвол судьбы. Казалось, что с тех пор как Голубчик начал свой рассказ, прошла целая вечность. Я говорю не

Впервые напечатанный в нескольких выпусках газеты Frankfurter Zeitung весной 1924 года, роман известного австрийского писателя и журналиста, стал одним из бестселлеров веймарской Германии. Действие происходит в отеле в польском городке Лодзь, который населяют солдаты, возвращающиеся с Первой мировой войны домой, обедневшие граждане рухнувшей Австро-Венгерской империи, разорившиеся коммерсанты, стремящиеся уехать в Америку, безработные танцовщицы кабаре и прочие персонажи окраинной Европы.
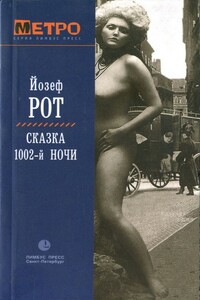
Действие печально-иронического любовного романа всемирно известного австрийского писателя разворачивается в декорациях императорской Вены конца девятнадцатого века.
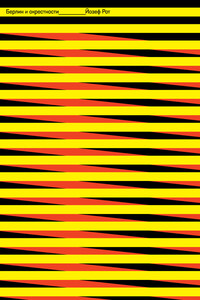
В сборник очерков и статей австрийского писателя и журналиста, составленный известным переводчиком-германистом М.Л. Рудницким, вошли тексты, написанные Йозефом Ротом для берлинских газет в 1920–1930-е годы. Во времена Веймарской республики Берлин оказался местом, где рождался новый урбанистический ландшафт послевоенной Европы. С одной стороны, город активно перестраивался и расширялся, с другой – война, уличная политика и экономическая стагнация как бы перестраивали изнутри его жителей и невольных гостей-иммигрантов.
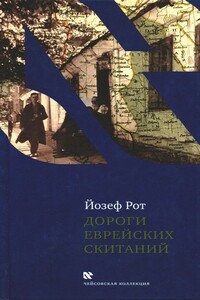
В 1926 году Йозеф Рот написал книгу, которая удивительно свежо звучит и сегодня. Проблемы местечковых евреев, некогда уехавших в Западную Европу и Америку, давно уже стали общими проблемами миллионов эмигрантов — евреев и неевреев. А отношение западных европейцев к восточным соседям почти не изменилось. «Автор тешит себя наивной надеждой, что у него найдутся читатели, перед которыми ему не придется защищать евреев европейского Востока; читатели, которые склонят голову перед страданием, величием человеческой души, да и перед грязью, вечной спутницей горя», — пишет Рот в предисловии.Теперь и у нашего читателя появилась возможность оправдать надежду классика — «Дороги еврейских скитаний» наконец выходят в России.
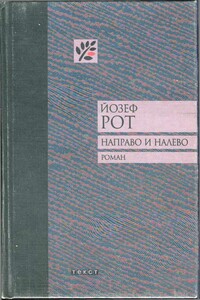
Йозеф Рот (1894–1939) — выдающийся австрийский писатель, классик мировой литературы XX века, автор знаменитых романов «Марш Радецкого», «Склеп капуцинов», «Иов». Действие романа «Направо и налево» развертывается в Германии после Первой мировой войны. В центре повествования — сын банкира, человек одаренный, но слабохарактерный и нерешительный. Ему противопоставлен эмигрант из России, практичный делец, вместе с тем наделенный автором романтическими чертами. Оба героя переживают трагическое крушение иллюзий.На русском языке роман издается впервые.

Одно из самых известных произведений знаменитого австрийского писателя. Герой романа Мендл Зингер, вконец измученный тяжелой жизнью, уезжает с семьей из России в Америку. Однако и здесь, словно библейского Иова, несчастья преследуют его. И когда судьба доводит Зингера до ожесточения, в его жизни происходит чудо…

«Много лет тому назад в Нью-Йорке в одном из домов, расположенных на улице Ван Бюрен в районе между Томккинс авеню и Трууп авеню, проживал человек с прекрасной, нежной душой. Его уже нет здесь теперь. Воспоминание о нем неразрывно связано с одной трагедией и с бесчестием…».
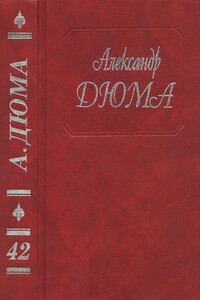
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
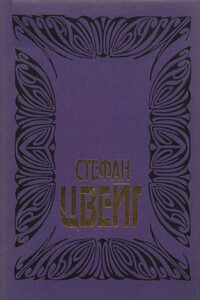
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881—1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В первый том вошел цикл новелл под общим названием «Цепь».

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.
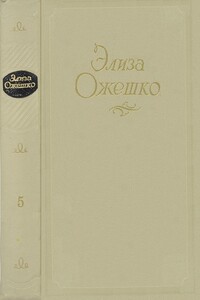
В 5 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли рассказы 1860-х — 1880-х годов:«В голодный год»,«Юлианка»,«Четырнадцатая часть»,«Нерадостная идиллия»,«Сильфида»,«Панна Антонина»,«Добрая пани»,«Романо′ва»,«А… В… С…»,«Тадеуш»,«Зимний вечер»,«Эхо»,«Дай цветочек»,«Одна сотая».