Исповедь мужа - [12]
Лиза покраснела и не отвечала ему. Маврогени был необыкновенно естественен, пока мы его рассматривали. Не скрывал своего удовольствия, смеялся и не был смущен. Понравилось мне также то, что он мало знает и не скрывает своего невежества; на словах как будто стыдится, а лицо веселое. Увидал у меня на стене портреты знаменитых людей и спрашивает: «Это кто?» Это Лист. «Кто такой Лист?» «А тут подписано Ройе-Коллар; что он сделал, Ройе-Коллар?..» «Кто такой Бальзак?» — Странно, — отвечал я, — что вы не знаете ни Листа, ни Бальзака. Про Ройе-Коллара я не говорю — это лицо скромное и серьезное, не для молодых повес...
— Не знаю, говорит, извините! Мне так совестно... А сам и не думает совеститься...
— Mavroguéni est un brave garçon, mais c'est une tête un peu fêlée, — говорит о нем Бертран с высокомерием старшего и глубокомысленного друга.
Стали петь хором по-итальянски; Маврогени фальшивит, смеется и кричит:
— У греков, говорит, мало хороших голосов; для этого надо ехать в Италию.
Увидел мой халат. «Позвольте мне надеть!» Надел, смотрится в зеркало и доволен.
Потом рассказывает, что он никогда халатов не носил и не носит. «Когда был на родине, проснусь поутру — ив море. И плаваю, и плаваю, ныряю, ныряю! Некогда халат надевать!» И, несмотря на все свое ребячество, как он смело и строго остановил Бертрана, когда у того сорвалась одна, быть может, необдуманная невежливость. Я стал рассматривать штуцер одного из их солдат, а Бертран сказал:
— Voilà, monsieur, la bajonette française qui fait trembler toute l'Europe!
Я не отвечал ни слова и поставил штуцер в угол. Маврогени пожал плечами и заметил ему: «Здесь не бастион, я думаю... идет ли это говорить?..» Бертран покраснел. Потом я из другой комнаты слышал, как они спорили.
— Ты приверженец русских... это известно! Ты слишком молод, чтобы давать мне уроки приличий.
— Да! я русских люблю и тебя люблю. И скажу тебе, нехорошо говорить это русским, когда и без того у них больше тысячи человек выбывает каждый день из строя в Севастополе. Не сердись! ведь мы друзья?
— Прекрасно... мы друзья; но именно из дружбы можно бы было воздержаться от подобных замечаний, пока мы не одни с глазу на глаз...
— Мне было жаль, — сказал Маврогени. Наконец Бертран воскликнул:
— Eh bien! j'ai eu tort! Je l'avoue!
Маврогени искал случая быть со мной наедине и, когда добился этого, с жаром стал рассказывать мне о своей жажде видеть русских, о своем побеге на войну от родных, об ошибке, которую он сделал.
— Я решился вдруг, — сказал он, — отец и мать мои жили тогда в Галлиполи... я собрал, что мог, денег, сел на первое купеческое судно, и оно привезло меня в Балаклаву к союзникам. Я все думал — лишь бы доехать, а там убегу... Я воображал всех русских великанами, силачами; думал, что они все строгие, набожные; я с ума сходил, чтобы попасть в ваш лагерь. Но пришла мне мысль ехать в Крым только тогда, когда некому было меня довезти, кроме французов и англичан. Попал я на большое купеческое судно. Волов на нем везли для войска. Поднялась буря, и шесть дней носило нас по Чорному морю. Я не унывал: мачты сломались, руль испортился, капитан головой об стену бился; а я все ел, пил и смеялся... и ни разу не подумал, что могу утонуть. Французы за мной следили; бежать не знаю куда, по-русски не знаю; надеялся хоть издали увидеть русских. И когда видел я вдали огни в севастопольских домах, когда пушки ваши стреляли, когда союзники бежали или были разбиты, я был вне себя. Привезли пленных, кричат около меня: «русские! русские!» Я бегу... Вижу — трое. Один казак и два солдата: нехороши собой, ростом невелики. Досадно мне было, что они такие; а еще досаднее, что ни слова не могу им сказать! Все заметили, как я на них смотрел и теперь шагу не могу один сделать. Бертран боялся, чтобы я не пробовал бежать и чтобы не расстреляли; взял меня на поруки, а я дал ему честное слово не перебегать к русским. Но если бы я мог!
— Ив Бертрана бы вы стреляли, если бы были свободны? — спросил я у него.
— Нет, — отвечал он, — в него бы не стал стрелять, а в других с удовольствием, особенно в красных дьяволов, в англичан!
Я разочаровал его немного тем, что сказал: «Между русскими и русскими есть большая разница. Народ, правда, набожен, но нравами не слишком строг; а общество вовсе уж не строгого нрава и, к сожалению, не слишком религиозно. Если и есть где строгость семейных нравов, так это скорей в богатом дворянстве, — прибавил я, — а средний круг наш, который образовался не столько выработкой снизу, сколько распадением сверху, скорей страдает распущенностью, чем излишней суровостью семейного начала».
— Как это странно! Как это странно! — повторял Маврогени. — А у нас, греков, нравы строги. Говорят, это турецкое иго очистило народ. Я не знаю. Так думают другие.
— Не знаю, — отвечал я, — иго ли это очистило или что другое. И крымские греки в семьях строже русских. Если ссор у них [не] меньше, чем у нас, так порядка внутреннего, наверное, больше. Все мужья у них, во-первых, ревнивы, если не по натуре, так по обязанности и для приличия.
— Разве можно не ревновать жену, если ей кто-нибудь нравится? — спросил он с лукавым любопытством.

Константин Николаевич Леонтьев начинал как писатель, публицист и литературный критик, однако наибольшую известность получил как самый яркий представитель позднеславянофильской философской школы – и оставивший после себя наследие, которое и сейчас представляет ценность как одна и интереснейших страниц «традиционно русской» консервативной философии.

«…Я уверяю Вас, что я давно бескорыстно или даже самоотверженно мечтал о Вашем юбилее (я объясню дальше, почему не только бескорыстно, но, быть может, даже и самоотверженно). Но когда я узнал из газет, что ценители Вашего огромного и в то же время столь тонкого таланта собираются праздновать Ваш юбилей, радость моя и лично дружественная, и, так сказать, критическая, ценительская радость была отуманена, не скажу даже слегка, а сильно отуманена: я с ужасом готовился прочесть в каком-нибудь отчете опять ту убийственную строку, которую я прочел в описании юбилея А.

Константин Николаевич Леонтьев начинал как писатель, публицист и литературный критик, однако наибольшую известность получил как самый яркий представитель позднеславянофильской философской школы — и оставивший после себя наследие, которое и сейчас представляет ценность как одна и интереснейших страниц «традиционно русской» консервативной философии.

Константин Николаевич Леонтьев начинал как писатель, публицист и литературный критик, однако наибольшую известность получил как самый яркий представитель позднеславянофильской философской школы – и оставивший после себя наследие, которое и сейчас представляет ценность как одна и интереснейших страниц «традиционно русской» консервативной философии.

К. Н. Леонтьев – самобытный, оригинальный и в то же время близкий к Русской Церкви мыслитель. Он часто советовался с оптинскими старцами по поводу своих сочинений и проверял свои мысли их советами. Именно его оригинальность, с одной стороны, и церковность, с другой, стали причиной того, что он не снискал широкой популярности у читающей публики, увлеченной идеями либерализма и политического радикализма. Леонтьев шел против течения – и расплатой за это стала малоизвестность его при жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Второй том собрания сочинений классика Серебряного века Бориса Зайцева (1881–1972) представляет произведения рубежного периода – те, что были созданы в канун социальных потрясений в России 1917 г., и те, что составили его первые книги в изгнании после 1922 г. Время «тихих зорь» и надмирного счастья людей, взорванное войнами и кровавыми переворотами, – вот главная тема размышлений писателя в таких шедеврах, как повесть «Голубая звезда», рассказы-поэмы «Улица св. Николая», «Уединение», «Белый свет», трагичные новеллы «Странное путешествие», «Авдотья-смерть», «Николай Калифорнийский». В приложениях публикуются мемуарные очерки писателя и статья «поэта критики» Ю.
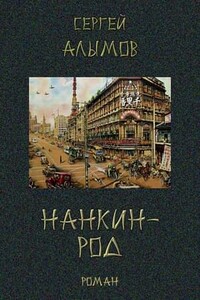
Прежде, чем стать лагерником, а затем известным советским «поэтом-песенником», Сергей Алымов (1892–1948) успел поскитаться по миру и оставить заметный след в истории русского авангарда на Дальнем Востоке и в Китае. Роман «Нанкин-род», опубликованный бывшим эмигрантом по возвращении в Россию – это роман-обманка, в котором советская агитация скрывает яркий, местами чуть ли не бульварный портрет Шанхая двадцатых годов. Здесь есть и обязательная классовая борьба, и алчные колонизаторы, и гордо марширующие массы трудящихся, но куда больше пропагандистской риторики автора занимает блеск автомобилей, баров, ночных клубов и дансингов, пикантные любовные приключения европейских и китайских бездельников и богачей и резкие контрасты «Мекки Дальнего Востока».

