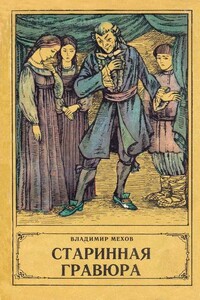Испанский смычок - [12]
Потом я услышал смех. Это были не вежливые тихие смешки, а с трудом сдерживаемый хохот. Краем глаза я видел: Эль-Нэнэ запрокинул голову назад и широко разинул рот. Вино лилось у него из стакана на пол. Меня это не смутило: я продолжал играть и играл бы еще долго, если бы лицо вдруг не обожгло болью. Подняв глаза, я увидел нависшего надо мной сеньора Эдуардо Ривера. Щека пылала. Оцепенение исчезло. Только тут до меня дошло — с той же беспощадной ясностью, с какой пробудившийся ребенок понимает, что он намочил постель, — я играл на скрипке как на виолончели. Взгромоздил ее на стул и поставил стоймя у себя между ног. Под впечатлением от Дуарте я и представить себе не мог, что на струнном инструменте можно играть как-то иначе. А может быть, мне в тот миг провиделось мое будущее?
Музыканты продолжали заливисто хохотать, а я так и не понял, слышали ли они хоть что-то из моего менуэта. Даже исполненный в столь неправдоподобной позиции, он, на мой взгляд, прозвучал не так уж плохо. Раскаяния я не испытывал, только усталость, и Ривера, удивленный этим, снова поднял руку, собираясь наградить меня второй пощечиной.
В дни, когда школьные учителя почем зря лупили учеников, а владельцы магазинов гоняли должников метлой, одну пощечину Ривере бы простили. Но не две. И не в моей семье. Пока я играл, мама стояла рядом, держа в руках кожаный футляр от смычка. Она медленно подняла его вверх. Трио Эль-Нэнэ перестало смеяться. Мама закрыла глаза, отвела правый локоть и размахнулась. Раздался глухой стук. Кожаный футляр врезался в мерзкую физиономию. Из вечно мокрого длинного носа Рьеры хлынул поток, на сей раз алого цвета.
Мы торопились домой. Друг семьи пригласил нас погостить у него в доме на побережье, и нам еще надо было собрать вещи.
— Когда мы вернемся, мама? — спросила Луиза, пока мы распихивали одежду по чемоданам.
— Недели через три. К этому времени сеньор Ривера вылечит нос.
— А занятия скрипкой будут? — спросил я. — Он опять будет к нам приходить?
— Да, querido[8]. И нет, — сказала она.
И вдруг засмеялась так, как не смеялась уже много лет, — громко, бурно, заразительно. Этот смех напомнил мне взлет стаи вспугнутых птиц, устремляющихся кто куда, ведомых каждая своей надеждой.
Мы уже стояли в прихожей с чемоданами, когда в дверь постучали. Мы, дети, дружно посмотрели на маму, заметив, как она напряглась. Из-под тяжелой деревянной двери пробивался неверный свет, в котором плясала тень от чьих-то ног. В широкой щели мелькнули грязные пальцы — это мальчик-посыльный просунул в нее конверт.
Как ни странно, мой неудачный дебют произвел впечатление на Эль-Нэнэ. У него нашлось время, чтобы написать письмо с рекомендацией к настоящему учителю игры на виолончели в Барселоне. Пианист подписался полным именем — Хусто Аль-Серрас (я и не знал, что у него есть другое имя, кроме Эль-Нэнэ) — и внизу пририсовал свой шаржированный автопортрет размером с песету.
Мама улыбнулась, прочитав письмо, но нахмурилась при виде карикатуры. Затем сложила листок и велела нам подождать, пока она положит его в семейную Библию, рядом с последним письмом отца.
— Барселона, — произнесла она. — Это далеко.
Мы молчали, но я все еще чувствовал тепло маминого смеха. Будущее оставалось неопределенным, но в нем хотя бы появилось что-то живое. Пусть кости моего отца лежали, обращаясь в прах, в земле, больше не принадлежащей Испании. Мы продолжали жить.
Глава 3
После возвращения с каникул я был рад, что мне не придется больше заниматься музыкой с сеньором Риверой. Но ближе к Рождеству меня начала грызть тоска — так хотелось взять в руки инструмент.
— Когда я начну учиться играть? — приставал я к маме.
— У нас нет виолончели, Фелю.
— Можно на скрипке.
— А кто будет с тобой заниматься?
— Я же скоро состарюсь! — воскликнул я, восьмилетний, и мама рассмеялась.
Но месяцы шли, я продолжал приставать к матери, однако добился только одного: в ответ она больше не смеялась и не ерошила мне волосы.
Настало новое столетие с его одержимостью новизной и быстрыми решениями. В Испанию хлынули молодые музыканты из Англии, Австрии и России. Девчонка из Америки, младше меня, виртуозно играла на виолончели — моей виолончели, думал я, и от этой мысли мне делалось тошно. Ни один из известных исполнителей не снизошел до нашего городишки. Я узнавал о них из газет и афиш на железнодорожной станции. «Мадрид — Севилья — Гранада — Кордова — Валенсия — Барселона». И никогда — Кампо-Секо.
Если мне случалось столкнуться с Эдуардо Риверой, он переходил на другую сторону улицы или делал вид, что не замечает меня. Он брел понуро, одинокий, несчастный человек, и мне порой хотелось догнать его и крикнуть: «Мне тоже очень плохо!»
— А Барселона далеко? — донимал я мать.
— Очень далеко.
То же самое она говорила о пляже, на который мы недавно ходили:
— Я не смогу нести тебя на руках, если на обратном пути ты устанешь. Ты уже большой.
— Я не устану. Обещаю. — Я делал вид, что не замечаю ее взгляда, обращенного на мою левую ногу.
— Не обещай того, что не сможешь исполнить.
— Но я смогу! — Я не скрывал огорчения. Старшим братьям и сестре разрешили пойти на пляж, а мне так хотелось с ними! Я не боялся, что устану, и не понимал, почему мама противится.

Отряд красноармейцев объезжает ближайшие от Знаменки села, вылавливая участников белогвардейского мятежа. Случайно попавшая в руки командира отряда Головина записка, указывает место, где скрывается Степан Золотарев, известный своей жестокостью главарь белых…
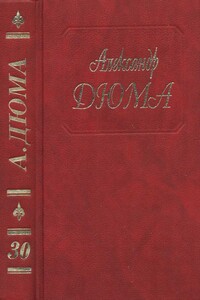
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
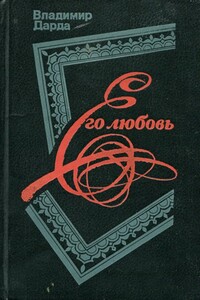
Украинский прозаик Владимир Дарда — автор нескольких книг. «Его любовь» — первая книга писателя, выходящая в переводе на русский язык. В нее вошли повести «Глубины сердца», «Грустные метаморфозы», «Теща» — о наших современниках, о судьбах молодой семьи; «Возвращение» — о мужестве советских людей, попавших в фашистский концлагерь; «Его любовь» — о великом Кобзаре Тарасе Григорьевиче Шевченко.
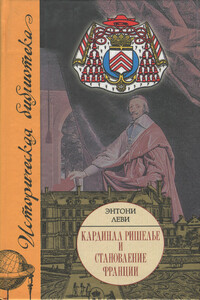
Подробная и вместе с тем увлекательная книга посвящена знаменитому кардиналу Ришелье, религиозному и политическому деятелю, фактическому главе Франции в период правления короля Людовика XIII. Наделенный железной волей и холодным острым умом, Ришелье сначала завоевал доверие королевы-матери Марии Медичи, затем в 1622 году стал кардиналом, а к 1624 году — первым министром короля Людовика XIII. Все свои усилия он направил на воспитание единой французской нации и на стяжание власти и богатства для себя самого. Энтони Леви — ведущий специалист в области французской литературы и культуры и редактор авторитетного двухтомного издания «Guide to French Literature», а также множества научных книг и статей.
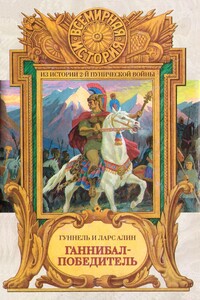
Роман шведских писателей Гуннель и Ларса Алин посвящён выдающемуся полководцу античности Ганнибалу. Рассказ ведётся от лица летописца-поэта, сопровождавшего Ганнибала в его походе из Испании в Италию через Пиренеи в 218 г. н. э. во время Второй Пунической войны. И хотя хронологически действие ограничено рамками этого периода войны, в романе говорится и о многих других событиях тех лет.