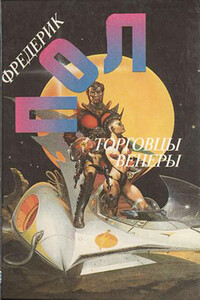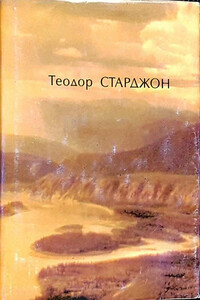Между созданиями Лоранса, всего чаще посвященными трагическим, мрачным сюжетам из средних веков и XV–XVI столетий, с их монахами, королями, инквизициями, допросами, проклятиями, застенками и дыбами, особенно великую роль играют его чудесные иллюстрации к истории „Меровингов“; из новых времен, глубокою историчностью и характеристикою наполнены его картины из эпохи конца XVIII века: „Убитый генерал Марсо“ и „Девочка Боншан перед революционным трибуналом“. Эта последняя сцена дышит и милою наивностью, и грозной трагичностью.
В начале 80-х годов появилась картина Рошгросса: „Андромаха“, обещавшая в ее авторе значительного и истинного исторического живописца: так оригинально, верно и ново взята была им правдивая нота древней, гомеровской Греции, изящной и прекрасной, но еще дикой и варварской, словно тут захолустные народы из глубин Африки: и в самой троянке Андромахе, вопящей в отчаянии при виде того, как свирепые дикари хотят размозжить о камни голову ее крошечного сына Астианакса, и в страшных вооруженных дикарях, греках вокруг нее ничего уже нет всего того условного и выдуманного, что прежде бывало в картинах на греческие сюжеты (например, у Флаксмана): нынче у Рошгросса была выставлена неумытная историческая грозная правда. Но истинность представления проявилась у Рошгросса в одной единственно этой только картине (1883); все, что он писал потом, „Сцена времен крестьянских войн, жакерии“ (1885), „Навуходоносор“ (1886), „Саломея перед Иродом“ (1887), „Гибель Вавилона“ (1891), „Грабеж римской виллы гуннами“ (1893), „Убийство императора Геты“ (1899) — опять по-старинному напыщенно, лживо, фальшиво, и, наконец, Рошгросс дошел до такой пошлой академичности и аллегории старинного покроя, как „Погоня за счастьем“ — пирамида из людей, и „Пение муз пробуждает душу человеческую“ (1898). Тут от прежнего Рошгросса не осталось и дребезгов.
Наконец, я упомяну здесь в числе „исторических живописцев“ также еще двух: Мейсонье и Невилля. Я очень хорошо знаю, что их обыкновенно относят в отдел „военных живописцев“, баталистов. Но я такого деления и подразделения не признаю: я его считаю совершенно ложным и напрасным. Не считают же Джулио-Романо, Микель-Анджело, Леонардо да Винчи или Рубенса — баталистами, военными живописцами, оттого, что у них бывали изображения сражения. Так и в новое время таких живописцев совершенно справедливо и разумно считать „историческими“, и их картины — тоже „историческими“. Оба художника писали свои сцены из военного времени с такою преданностью, с таким увлечением, с такой любовью и исканием правды, с такою современностью, которые не имеют ничего общего с холодом, мертвенностью, сушью и формалистикой настоящих „баталистов“, таких, например, как Орас Берне, Ивон, Детайль и другие. В свои военные картины (хотя бы даже и прославляющие с восторгом и упоением дух зловредных Наполеонов, I и III) Мейсонье внес ту самую истинность сцены, характеров и бесконечных подробностей обстановки, которыми отличились, раньше того, в течение 40-х, 50-х и 60-х годов, его мастерские фигурки XVII и XVIII века, в стиле и манере старых голландцев, а Невилль с большим талантом воссоздал все то здоровое чувство жизни, ту правду и реализм, которыми дышала Франция времени великого трагического 1870 года. И потому картины этих двух живописцев занимают очень значительную страницу в истории французской живописи второй половины XIX века. Их многочисленные подражатели только повторяли в разжиженном виде их бодрую и самостоятельную ноту. Нельзя, однакоже, не обратить внимания на ту странность, что Мейсонье никогда не написал ни одну женщину во всех своих картинах.
К периоду романтизма, историчности ложной и истинной, аллегории и начинающегося реализма относятся еще трое французских художников, представляющих собою фигуры довольно характеристичные. Это Гюстав Доре, Вида и Тиссо, Это были люди вполне разнородные, противоположные друг другу в своих вкусах и стремлениях и, однакоже, в ином вполне сходившиеся. Все они были рисовальщики-иллюстраторы, обращавшиеся в своем беспокойном, неугомонном творчестве к множеству задач, но главным образом к ветхому завету и евангелию. Ни для того, ни для другого у них не было ни малейшего понимания, наклонности и настроения, и потому бесчисленные иллюстрации их на эти сюжеты, не взирая на всю их моду и славу, не заключают в себе ничего истинного, прочного, вековечного и нужного для зрителя. Фантастичность, разнообразие, выдумывательная способность, иногда даже замечательная живописность пейзажей, служащих фонами для библейских иллюстраций Доре, свидетельствуют только о богатом и легком воображении этого художника; главные же действующие лица этих сцен всегда отличаются академичностью и отсутствием психологии, чего не может, конечно, скрыть никакая живописность и даже верность древних ориентальных костюмов; вся архитектура — выдуманная и небывалая; „сверхъестественные явления“ — банальны. У Вида много изучения Востока со стороны этнографии, типов, пейзажа, немало живописности и реализма в подробностях, но почти полное отсутствие творчества. Тиссо, долгое время посвящавший себя изображению современной „английской жизни“, вдруг перешел к иллюстрациям евангелия. Он провел много лет в Палестине и вообще на Востоке, изучая все еврейское, арабское и коптское, что только до сих пор есть налицо, и приобрел по этой части громадные сведения и материалы, но в своих иллюстрациях к евангелию представил много интересных и любопытных деталей, вместе с доказательствами полной неспособности представлять Христа, апостолов, ангелов, все религиозное и религиозно-историческое. Иллюстрации Доре к Данту страдают теми же недостатками, что его библейские, иллюстрации к „Дон Кихоту“ — не передают ни героя гениального романа, ни древней Испании XVII века.