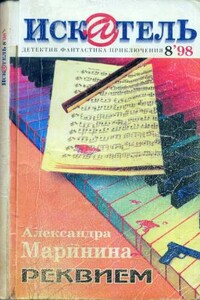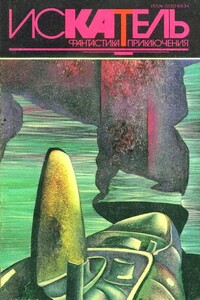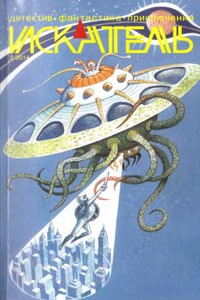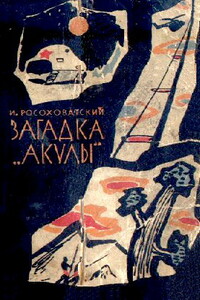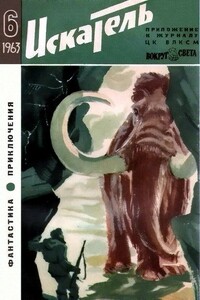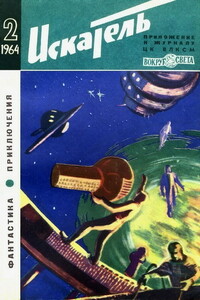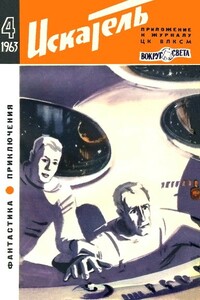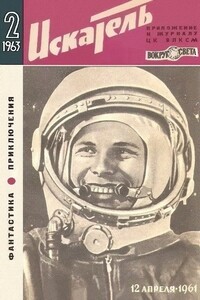Но теперь нужно было самому спускаться. Склон, обращенный к взводу, показался мне достаточно пологим. Я собрал фляги, вещмешки, спальные мешки, соорудил из лыж сани, пулемет и все добро уложил на них и пустил вниз. Убедился: снег лежит прочно. Я встал на вторую пару лыж и — была ни была, авось шею не сверну — помчался вниз. В общем и я и Федулов добрались к взводу почти одновременно.
— Какой бог вас привел? — обнял меня лейтенант.
— Да вот он, жмет во все лопатки, — показал я на Федулова.
— Товарищ лейтенант, — подлетел он, — так что приказание майора… уф… доставить журналиста политрука Пуш… — осекся он: — Петросяна…
— Так точно, Петросяна, выполнил.
Бойцы, чудом избавившиеся от смертельной опасности, отряхивали снег, собирали разбросанные вязанки хвороста, которые тащили с собой в горы, вещмешки. Федулов был в центре внимания, бойко разглагольствовал:
— Ну, подошли. А потом видим — в вас палят. Он тогда — гранаты есть, Федулов? А я — как же, конечно. Он тогда — хап у меня две и по отвесу, как по шоссейке…
— А ты? — спросил пожилой солдат. В нем я узнал Ашота, который когда-то подарил мне деревянную ложку во дворе школы. Она и сегодня лежала в моем рюкзаке.
— А он мне — страхуй, говорит. Я погибну — ты пойдешь.
Чуть поодаль, смущенно переминаясь с ноги на ногу, стоял, смотрел на меня Левой, брат Ануш. Я видел, что ему очень хочется подойти и… неловко. И сам двинулся к нему.
— Ну, здравствуй, Левон, — сказал я ему по-армянски.
— Вы помните мое имя? — удивился он.
— Даже гостинец тебе привез. От сестры.
Он зарделся и, будто не расслышав мою фразу, спросил:
— А как там внизу, вообще?
— Все в порядке внизу. — Я наконец нащупал в рюкзаке узелок, переданный мне Ануш. — Это тебе от сестры.
Увидев знакомый платочек, он совсем смутился, не знал, куда девать руки…
— А в Сталинграде как?
— В Сталинграде дают фрицам прикурить. Да ты бери, бери. Там лаваш, Ануш сама пекла.
— А письма нет? — не выдержал Левон.
— И письмо есть. Бери, бери.
— Спасибо вам! — Он запрятал узелок на грудь, под шинель и вдруг погасил улыбку, вытянулся, глядя мимо меня, приложил варежку к виску:
— Разрешите идти, товарищ лейтенант?
Я оглянулся. За спиной стоял Гаевой. Он коротко кивнул Левону, а мне протянул бинокль.
— Извините, что помешал. Просьба есть. Посмотрите, пожалуйста, вон туда внимательно. Что-то не пойму я…
— Что нужно разглядеть, лейтенант?
— Внимательно посмотрите правее вон того взгорбочка…
— Ничего, лейтенант. Снег. Камни.
— Что ж они там, заснули, раз фрицев пропустили? Ведь другого пути, кроме как мимо них, к этой вершине нет. Сколько немцев было там?
— Двое. Но лыжня накатанная. И в обе стороны.
— Значит, вы думаете, что двое зацепились, а остальные вернулись и снова прошли мимо них?
— Мимо кого, лейтенант?
— Да мимо Размадзе! Мимо взвода Размадзе! Они же там должны быть!
Мы осторожно двигались вперед. Нащупывали и обходила трещины. Время от времени останавливались, чтобы дать подтянуться отставшим. Конечно, в добрые довоенные времена ни один нормальный инструктор-альпинист не выпустил бы на такое восхождение столь разношерстную компанию, неумелую, без элементарного снаряжения. Порывы ветра, казалось, вот-вот сдуют нас с ледника. Крупные хлопья снега, вдруг повалившие с потемневшего неба, застилали глаза. Все тяжелее, хватая ртом разреженный воздух, дышали бойцы.
Вот приотстал, опустил на лед ручной пулемет и сам свалился рядом богатырского сложения парень. Я уже знал, что все зовут его Вася-сибиряк… Кто-то из друзей помог ему подняться. Теперь пулемет тащили двое. Затем, глухо охнув, осел в снег солдатик в шинели на вырост — из носа у него пошла кровь.
— Ничего, ничего, Илюша, дорогой, — склонился над ним Ашот. — Это горная болезнь. Не смертельная болезнь. Пройдет.
— Чаю ему надо, — сказал Левон, — может, у кого есть горячий чай?
Вопрос был нелеп — какой тут чай! И потому все промолчали. Ашот запрокинул голову солдата, положил на лицо его снег. Мимо, медленно увязая в снегу, проходили товарищи…
И снова весь наш небольшой отряд карабкался вверх. Я шел в цепочке, и мне было стыдно за свой роскошный белый полушубок, так выделявшийся среди их шинелей, за крепкие горные ботинки, которые здесь были несравнимо удобнее кирзовых сапог и валенок. Мне казалось, что мы не на равных, что меня, опытного, сильного, они, впервые очутившиеся в горах, оберегают, прикрывают своими телами от любой неожиданности.
На привале, когда, спрятавшись от ветра за скалой, решили перекусить, все вытащили по два-три сухаря. А я нашарил в рюкзаке (да, в рюкзаке, а не в «сидоре», где в уголках мешка по пустой катушке от ниток, чтобы держались брезентовые ремни) пачку роскошных американских галет — тоже забота дивизионного интенданта. На мое; «Угощайтесь», никто не ответил. Все жевали свои сухари. Лишь Федулов на правах проводника потянулся было, да под взглядом командира отдернул руку.
Меня пока не признавали своим. Я был для них заезжим гостем, у которого свой задачи, своя судьба. Вон как косо поглядывали, когда я по старой журналистской привычке решил тут же познакомиться и записать в тетрадку имена, чтобы потом не переврать, не перепутать: «Вася Потапов — сибиряк. Ашот Гукасян (ложка), Илья Резник (длинная шинель), Гурам Челидзе…»