Иск Истории - [3]
Это удивительно видно при даже поверхностном анализе оригинала, который педантично сделал переводчик «Иудейских древностей» с греческого на иврит Авраам Шалит (издательство «Мосад Бялик»). «Казус Флавия» протягивается и возвращается на «круги своя» через всю историю еврейского народа в две с половиной тысячи лет, с момента потери им государственности. Нам, при советской власти, казус этот был хорошо известен.
С переписыванием Истории связано – после Фрейда – понятие «вытеснения». Вытеснение – подсознательный способ выживания нервной системы не только индивида, но и целой нации. Но само вытеснение несет в себе «невытесняемость», нечто, вообще не подающееся фиксации. Эта «невытесняемость» не задевается динамикой мышления, потоком сознания, она неподъемна, неподвластна образам и словам, недоступна эстетизации, враждебна этике, подобна неоперабельным осколкам в теле: операционное прикосновение к ним чревато гибелью.
С «вытеснением» тесно связано «забвение», что не обязательно требует впрямую: забыть. Можно просто назвать другим именем. Так шаманы излечивают болезнь, называя ее по-иному.
В связи с «вытеснением» и «забвением» возникает устойчивое ощущение, усиливаясь в последние годы, что настоящее не рассчиталось с такими чудовищными феноменами, выплеснувшимися огнем и кровью в, казалось бы, «облагороженной» Возрождением и Просвещением Европе – как нацизм и сталинизм, олицетворяемые двумя короткими, сжимающими горло звуками – Шоа и ГУЛаг.
Справедливо говорил выдающийся французский философ XX столетия Габриель Марсель: «Ничего не преодолено». И это, по сути, перекликается со сказанным великим французским философом, евреем Анри Бергсоном: всякое явление в духе и нравственности, положительное ли, отрицательное, меняет общий духовный баланс мира.
И нет пути назад.
Глава первая
Двадцатые годы двадцатого века
В эти годы засеиваются зубы дракона, которые приведут к немыслимой катастрофе – Второй мировой войне.
В России безумствует гражданская бойня: отец на сына, брат на брата. Евреи, лишенные защиты, – козлы отпущения банд и армий разных цветов, от которых рябит в глазах. Над вихрем несущейся красной конницы с шашками наголо витают кощунственные слова из поэмы «Двенадцать» такого, казалось бы, мистически-надмирного, не от мира сего поэта Александра Блока: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови – Господи, благослови!»
Рафинированное дитя западной культуры, кумир российской интеллигенции, только недавно сказавший, что Истории зубы коварны и проклятия времени не избыть, в каком-то неистовом ослеплении не просто пишет стихи – выводит формулу из четырех лихо сложившихся строк. В них, если убрать слово «кровь», свернута пружиной вся теория Троцкого о «перманентной революции», уже разворачивающаяся той самой конницей, а если вернуть слово «кровь» – не заставляющая себя долго ждать, уже маячащая в будущем теория «бесноватого фюрера». Сорокалетний Блок, присмиревший, с потухшим взглядом, отчужденно смотрит на листки своих стихов, по которым прошелся сапог беснующейся толпы в их разоренном летнем доме.
Затаенное раскаяние и слабая, уже потусторонняя надежда – в его записи «О «Двенадцати» 1 апреля 1920 года: «...в январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией... Посмотрим, что сделает с этим время. Может быть, всякая политика так грязна, что одна капля ее замутит и разложит все остальное; может быть, она не убьет смысла поэмы; может быть, наконец – кто знает! – она окажется бродилом, благодаря которому «Двенадцать» прочтут когда-нибудь в не наши времена. Сам я теперь могу говорить об этом только с иронией; но не будем сейчас брать на себя решительного суда» (Ал. Блок. Собрание сочинений. 1960. том 3, стр. 474-475).
Суд Истории уже в тот год без всякого колебания берут на себя разрушители, чья родословная тянется от «прославленной и великой» французской революции. Решителен и скор их приговор: расстрел.
Через год, в страшном августе, собирающем жатву смерти, Блок тихо уйдет. Истает под безмолвный аккомпанемент выстрелов где-то в глухих подвалах: расстреляны Гумилев и с ним еще шестьдесят два человека. Еще через год, летом 1922-го, – массовая высылка интеллигенции, репрессии как постоянный, ставший привычным элемент каждодневья, планомерное уничтожение двух поколений русской литературы.
Именно Троцкий с завидной энергией еврея, сына богатого землевладельца, восставшего на отца, жестоко подавляет в марте 1921 года Кронштадтский мятеж, с фанатическим блеском в глазах продолжая внедрять свою перманентную революцию «с налета-поворота по цепи врагов густой».
В Европе смута и брожение. Семена перманентной революции дают всходы, не всегда желаемые: в Италии Муссолини захватывает власть; еще никого не удивляет, что в его фашистской партии немало евреев. Францию затопили потоки эмигрантов. Тысячи евреев, бегущих с полей гражданской войны в России, от погромов в Румынии, селятся в Париже. Еврей Леон Блюм возглавляет французскую социалистическую партию, отколовшуюся от коммунистической. Еврей Жорж Мандель назначен главой канцелярии военного кабинета президента Клемансо, того самого, который, не стесняясь, выражает «особую» любовь к немцам: «Боши заплатят за все».
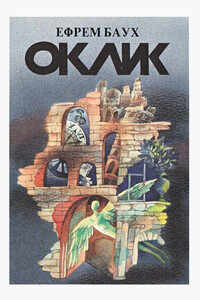
Роман крупнейшего современного израильского писателя Эфраима(Ефрема) Бауха «Оклик» написан в начале 80-х. Но книга не потеряла свою актуальность и в наше время. Более того, спустя время, болевые точки романа еще более обнажились. Мастерски выписанный сюжет, узнаваемые персонажи и прекрасный русский язык сразу же сделали роман бестселлером в Израиле. А экземпляры, случайно попавшие в тогда еще СССР, уходили в самиздат. Роман выдержал несколько изданий на иврите в авторском переводе.

Судьба этого романа – первого опыта автора в прозе – необычна, хотя и неудивительна, ибо отражает изломы времени, которые казались недвижными и непреодолимыми.Перед выездом в Израиль автор, находясь, как подобает пишущему человеку, в нервном напряжении и рассеянности мысли, отдал на хранение до лучших времен рукопись кому-то из надежных знакомых, почти тут же запамятовав – кому. В смутном сознании предотъездной суеты просто выпало из памяти автора, кому он передал на хранение свой первый «роман юности» – «Над краем кратера».В июне 2008 года автор представлял Израиль на книжной ярмарке в Одессе, городе, с которым связано много воспоминаний.

Крупнейший современный израильский романист Эфраим Баух пишет на русском языке.Энциклопедист, глубочайший знаток истории Израиля, мастер точного слова, выражает свои сокровенные мысли в жанре эссе.Небольшая по объему книга – пронзительный рассказ писателя о Палестине, Израиле, о времени и о себе.

Роман Эфраима Бауха — редчайшая в мировой литературе попытка художественного воплощения образа самого великого из Пророков Израиля — Моисея (Моше).Писатель-философ, в совершенстве владеющий ивритом, знаток и исследователь Книг, равно Священных для всех мировых религий, рисует живой образ человека, по воле Всевышнего взявший на себя великую миссию. Человека, единственного из смертных напрямую соприкасавшегося с Богом.Роман, необычайно популярный на всем русскоязычном пространстве, теперь выходит в цифровом формате.

Новый роман крупнейшего современного писателя, живущего в Израиле, Эфраима Бауха, посвящен Фридриху Ницше.Писатель связан с темой Ницше еще с времен кишиневской юности, когда он нашел среди бумаг погибшего на фронте отца потрепанные издания запрещенного советской властью философа.Роман написан от первого лица, что отличает его от общего потока «ницшеаны».Ницше вспоминает собственную жизнь, пребывая в Йенском сумасшедшем доме. Особое место занимает отношение Ницше к Ветхому Завету, взятому Христианством из Священного писания евреев.

Рассказ о первой организованной массовой рабочей стачке в 1885 году а городе Орехово-Зуеве под руководством рабочих Петра Моисеенко и Василия Волкова. Для младшего школьного возраста.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
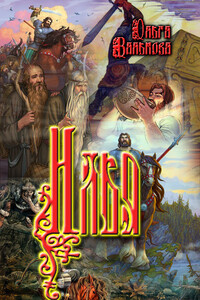
Роман по мотивам русских былин Киевского цикла. Прошло уже более ста лет с тех пор, как Владимир I крестил Русь. Но сто лет — очень маленький срок для жизни народа. Отторгнутое язычество еще живо — и мстит. Илья Муромец, наделенный и силой свыше, от ангелов Господних, и древней силой от богатыря Святогора, стоит на границе двух миров.
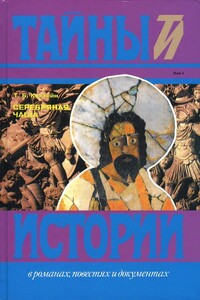
Действие романа относится к I веку н. э. — времени становления христианства; события, полные драматизма, описываемые в нем, связаны с чашей, из которой пил Иисус во время тайной вечери, а среди участников событий — и святые апостолы. Главный герой — молодой скульптор из Антиохии Василий. Врач Лука, известный нам как апостол Лука, приводит его в дом Иосифа Аримафейского, где хранится чаша, из которой пил сам Христос во время последней вечери с апостолами. Василию заказывают оправу для святой чаши — так начинается одиссея скульптора и чаши, которых преследуют фанатики-иудеи и римляне.
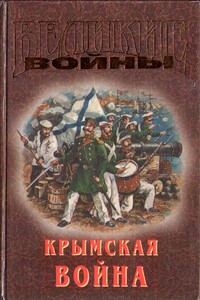
Данная книга посвящена истории Крымской войны, которая в широких читательских кругах запомнилась знаменитой «Севастопольской страдой». Это не совсем точно. Как теперь установлено, то была, по сути, война России со всем тогдашним цивилизованным миром. Россию хотели отбросить в Азию, но это не удалось. В книге представлены документы и мемуары, в том числе иностранные, роман писателя С. Сергеева-Ценского, а также повесть писателя С. Семанова о канцлере М. Горчакове, 200-летие которого широко отмечалось в России в 1998 году. В сборнике: Сергеев-Ценский Серг.

