Инженеры - [6]
Редкие встречи с товарищами и даже с Шуманом оставляли еще более тяжелое впечатление. Всякий боялся проговориться, всякий таинственно отвечал на вопросы, что он думает делать.
– Еще ничего не известно…
«Все эгоисты, все думают только о себе», – горько жаловался сам себе Карташев.
Зато из дому слали ему без счета радостные поздравительные письма и телеграммы. Энергично звали его домой.
Конечно, приятнее было бы приехать уже настоящим инженером-строителем, с местом, с бумажником, наполненным деньгами. Но и без этого тянуло туда, где любят и ждут.
– Поеду, – решил Карташев.
Зашел к Шуману, по обыкновению не застал его дома и оставил ему записку, что завтра с почтовым уезжает.
Шуман незадолго до отхода почтового поезда приехал на вокзал.
– Ну, что, как твои дела? – спрашивал его Карташев.
– Клюет, – ответил уклончиво Шуман.
– А у меня ничего не выгорело, – пожаловался Карташев.
– Гм… – промычал в ответ Шуман.
Перед последним звонком появился Шацкий.
В злополучный год болезни Карташева и его Шацкий отстал на один год, и с тех пор бывшие друзья почти не виделись.
Шацкий остался Шацким. Ломаясь, изображая из себя героя того романа из иностранной жизни, который последний прочел, он церемонно и галантно, едва дотрагиваясь до протянутой руки Карташева, проговорил:
– Узнал, что уезжаешь, и счел долгом проводить тебя.
– Ну, а я пошел, – сказал Шуман. – Прощай.
Он запыхтел, покраснел и трижды поцеловался с Карташевым.
– Ну, всего лучшего.
Шуман неуклюжей, проворной походкой, смущенно кивнув Шацкому, направился к выходным дверям.
Шацкий сейчас же после ухода Шумана сбросил с себя шутовской вид и заговорил простым языком.
– Ты грустен? Не могу ли я быть чем-нибудь полезным? Может быть, денег?
– Нет, спасибо. Да, невесело. Вот кончил и решительно не знаю, что с собою делать.
– Очень все это глупо организовано у нас. У одних все пять лет практики, у других ни разу. И моя судьба такая же будет. И в этом году опять никакой практики.
– Иди хоть в кочегары, – посоветовал Карташев.
Шацкий только досадливо дернул плечом.
– Что ж ты будешь делать? Домой поедешь?
– Ну, вот еще. Я уже третий год домой не езжу. Я ведь постоянно на практике, а с практики я еду прямо на лекции, потому что я остепенился и вот уже три года, как у меня нет ни одного потерянного дня. Что дня? Часа потерянного нет.
– И это, конечно, стоит денег?
– Не будем говорить об этом. Меньше, во всяком случае, чем служба моего брата в гусарах.
– Он кем там?
– Солдатом, mon cher, но это стоит десятка полтора тысяч в год. Держит, между прочим, своих лошадей для скачек. Теперь как раз скачки, и он зовет к себе в Варшаву. Старик в восторге: высылает ему и лошадей и деньги.
– Это тот твой брат, который поступал, когда мы кончали?
– Тот самый. В высшее заведение не пошел, и поверь, что сделает лучшую, чем мы с тобой, карьеру. Этот мальчик имеет нюх и поставлен не по-нашему. А мы с тобой… старики уже… Еще живы, еще не в могиле, но…
Суждены нам благие порывы,
Но свершить ничего не дано…
Тряпки, mon cher. Третий звонок, прощай, и если когда-нибудь вспомнишь старого друга, каких теперь уж нет и быть не может…
Шацкий опять впал в свой обычный тон и махал стоявшему в окне вагона Карташеву. Вагоны медленно двигались, Шацкий еще раз махнул, повернулся спиной, постоял мгновение и, карикатурно раскачиваясь, быстро, толкая публику, помчался прочь.
Карташев уныло провожал его глазами.
Скучные мысли ползли ему в голову.
Быстро пронеслось время. Давно ли подъезжал он впервые шесть лет тому назад к этому Петербургу. Шесть лет промелькнули, как шесть страниц прочитанной книги. Он ехал тогда и мечтал, что в эти шесть лет он приобретет знание, которое даст ему прочную возможность независимо стоять в жизни. Но знания нет. Давно, еще в гимназии, потерял аппетит к работе, и если кто-нибудь не сжалится и не даст кусок хлеба, то он пропал.
Ах, может быть, и будет этот кусок хлеба, но так тоскливо, так пусто на душе. Назад бы опять, к началу этих шести лет, за работу.
Все быстрее и быстрее мчался поезд по зеленым кочкам и болотам.
Карташев печально смотрел в окно.
V
Приезд домой не освежил Карташева. По крайней мере, на первое время. Дома как будто все осунулось, уменьшилось.
Мать постарела, волоса ее побелели еще с болезни Карташева. Давно и эта болезнь была забыта, и отношения установились как будто прежние, но что-то из прежнего оставалось все-таки и навсегда легло между матерью и Карташевым. В той бывшей борьбе слишком уже обнаружилось как-то все и было так неприкрашенно, что всякое воспоминание и с той и с другой стороны о том времени вызывало прозу и горечь. А отсюда постоянное опасение как-нибудь коснуться этого прошлого, этого больного. Опасение коснуться не только на словах, но и в воспоминании.
Наташу часто вспоминали еще, и сильнее тогда вставало в памяти пережитое.
Зина по-прежнему была замужем за Неручевым, но дела их шли все хуже и хуже. Муж ее отчаянно кутил, а Зина толстела и ходила с опухшими глазами.
Аня кончала гимназию, религиозная, влюбленная в мать. Кончал гимназию и младший брат и, хлопая покровительственно старшего брата по плечу, говорил, горбясь:

Произведение из сборника «Барбос и Жулька», (рассказы о собаках), серия «Школьная библиотека», 2005 г.В сборник вошли рассказы писателей XIX–XX вв. о собаках — верных друзьях человека: «Каштанка» А. Чехова, «Барбос и Жулька» А. Куприна, «Мой Марс» И. Шмелева, «Дружище Тобик» К. Паустовского, «Джек» Г. Скребицкого, «Алый» Ю. Коваля и др.
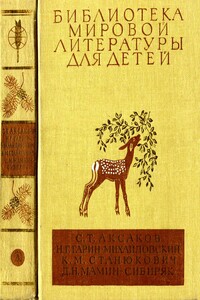
В том включены избранные произведения русских писателей-классиков — С. Т. Аксакова, Н. Г. Гарина-Михайловского, К. М. Станюковича, Д. Н. Мамина-Сибиряка.
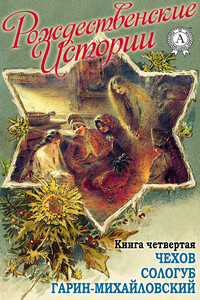
Четвертая книга из серии «Рождественские истории» познакомит вас с творениями русских писателей – Антоном Чеховым, Федором Сологубом и Николаем Гарином-Михайловским. Рождественскими мотивами богаты рассказы Чехова, в которых он в легкой форме пишет о детстве и о семье. Более тяжелые и философские темы в рассказах «накануне Рождества» затрагивают знаменитый русский символист Сологуб, а также писатель и по совместительству строитель железных дорог Гарин-Михайловский. «Рождественские истории» – серия из 7 книг, в которых вы прочитаете наиболее значительные произведения писателей разных народов, посвященные светлому празднику Рождества Христова.

Мифы и легенды народов мира — величайшее культурное наследие человечества, интерес к которому не угасает на протяжении многих столетий. И не только потому, что они сами по себе — шедевры человеческого гения, собранные и обобщенные многими поколениями великих поэтов, писателей, мыслителей. Знание этих легенд и мифов дает ключ к пониманию поэзии Гёте и Пушкина, драматургии Шекспира и Шиллера, живописи Рубенса и Тициана Брюллова и Боттичелли. Настоящее издание — это попытка дать возможность читателю в наиболее полном, литературном изложении ознакомиться с историей и культурой многочисленных племен и народов, населявших в древности все континенты нашей планеты. В данном томе представлены верования и легенды народов Восточной и Центральной Азии, чья мифология во все времена была окутана завесой тайны.

«Когда-то жил в одном городе молодой человек по имени Ко. Он был бедный и служил работником у своего соседа...».

«Это было очень давно.По улицам одного большого южного города, амфитеатром спускающегося к синему беспредельному морю, изо дня в день, лето и зиму, бродила странная фигура сумасшедшего…».
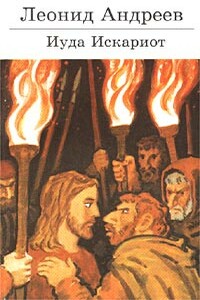
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
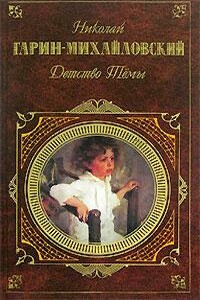
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.