Инженеры - [2]
– С окончанием! Потрудились, и наградил господь.
Это он-то, Карташев, потрудился? Ему стало совсем стыдно, и он смущенно заговорил:
– Не можете ли, Онуфриев, дать мне еще двадцать пять рублей?
Мысль эта у Карташева мелькнула вдруг, и надо было согласиться, что момент был выбран удачный. Расчувствовавшемуся Онуфриеву не удалось принять его обычный настороженный и даже неприступный вид.
Он только нерешительно сказал:
– Не много ли будет? Ведь триста с хвостиком уже.
– В последний раз, – ласково-просительно ответил Карташев.
Онуфриев полез в карман и, доставая из кожаного кошелька точно для случая приготовленную двадцатипятирублевку, отдуваясь, обиженно проговорил, отдавая ее Карташеву:
– Как тут вам откажешь? Только уже, пожалуйста, Артемий Николаевич, – продолжал Онуфриев, вынимая перо, чернила и бумагу для расписки, – вы уже не обидьте.
– Ну, что, бог с вами, Онуфриев, – усмехнулся Карташев.
Когда расписка была написана и спрятана, Онуфриев, подавая Карташеву фуражку, добродушно говорил:
– Согрешить меня заставили, Артемий Николаевич, – ведь после тех троек я на образа крестился, что больше вам не дам.
Да, это была глупая история с этими тремя тройками тогда ночью, когда вдруг он один остался на них среди ночи с поручением рассчитать их, потому что все деньги, какие были у компании, пошли на ужин, а так как он за ужин не платил, то ему и поручили, передав остаток в двенадцать рублей, рассчитаться с этими тройками. В таком отчаянном положении он и поехал тогда к Онуфриеву, подняв его с кровати, а на попытку Онуфриева отказаться сказал:
– Какие пустяки вы говорите, Онуфриев, пока вы не заплатите, я не уйду от вас, потому что ямщики меня убьют.
Это было так убедительно, что тут же, повернувшись к большому киоту с лампадкой, заставленному образами, взбешенный Онуфриев в белых подштанниках, белой рубахе, босой, красный, сияющий гневом, сказал, крестясь:
– Образами клянусь, что это в последний раз и больше от меня не получите ни копейки.
Месть этим не ограничилась. Надев калоши и пальто, он сам пошел рассчитывать ямщиков, выражая этим подрыв всякого доверия. Это было, конечно, обидно, но дело сделано, и ямщики получили свои деньги, и у него в кармане еще осталось двенадцать рублей, которых до поездки не было.
Было и еще кое-что, отчего Онуфриев охладел.
Как-то раз Онуфриев позвал Карташева к себе в гости.
Приглашение было необычное. Карташев поблагодарил и пришел.
На столе стоял самовар, варенье, бутылка с водкой, другая какая-то, ветчина.
За столом сидела худенькая, тоненькая, почти подросток, светлая блондинка с маленьким птичьим личиком, смешно, точно в миньятюре, снятым с лица самого Онуфриева. И хотя первое впечатление и было далеко не в пользу девушки, но Карташев с свойственной ему в этом отношении добросовестностью уже нащупывал те стороны, если не тела, то души ее, которые вызвали бы и в нем симпатию. Было, конечно, некрасиво смотреть, как она прямо с общего блюдечка брала своей ложечкой варенье, съедала его, облизывала ложечку и опять брала ею варенье, как-то сгибая так пальцы, как будто бы шила. Но при всем том в ней не чувствовалось уверенности, что так и надо было делать. Напротив – робость, нерешительность, она как будто искала опоры, и, наверно, если бы Карташев сказал ей, как надо делать, она и делала бы все, что надо, не хуже всех других.
После чаю Онуфриев, сказав дочери сухо: «уйди», наклонился доверчиво к Карташеву и заговорил, понижая голос:
– Спасибо вам, Артемий Николаевич, что не побрезгали и зашли. Очень полюбил я вас. Простите за слово, как отец сына… Тридцатый год доходит, что я швейцаром в институте, а добрее вас и не видел. Очень много в вас этой доброты, и льнут к ней люди, как мухи к меду. Только ведь и пропасть так легко от этой самой доброты. Солнышко и то всех не обогреет. А ведь вы для всякого рады, а не можете, а беретесь. Ведь я вот вижу, через мои же руки все повестки проходят, сколько вы получаете, сколько каждый год привозите, сколько у меня и других, может быть, перехватываете, – по-царски жить бы можно, а вы в двугривенном всегда нуждаетесь. А отчего? Все людям…
Карташев энергично замотал головой.
– Нет, нет, Онуфриев. Это только так кажется: просто я не умею обращаться с деньгами. Когда у меня в кармане деньги есть, мне кажется, что они и всегда будут.
– И потому их и нет у вас. Ну, да известно, ваше дело барское, и маменька оставит, и сами станете зарабатывать…
– От матери я ничего не получу: все пойдет сестрам…
– Ну, это уж ваша вполне воля, а я к тому, что я-то жил не по-барски и всю жизнь копейками собирал. И все думал: как жить, как жить. Была жена у меня, мать вот Лизы, теперь только Лиза одна на весь свет божий. Для нее живу, для нее и работаю. Кто враг своему детищу, хотел бы я, чтобы хоть по мужу, если не по отцу, вышла бы она из хамского сословия, – хотел бы, а как бог велит, как люди побрезгают, нет ли?
Карташев оживленно и горячо начал доказывать, что времена теперь уже другие, что никакой давно уже разницы нет между сословиями, что его Лиза такое прелестное дитя, что он лично не сомневается в том, что она достойна высшего счастья на земле.

Произведение из сборника «Барбос и Жулька», (рассказы о собаках), серия «Школьная библиотека», 2005 г.В сборник вошли рассказы писателей XIX–XX вв. о собаках — верных друзьях человека: «Каштанка» А. Чехова, «Барбос и Жулька» А. Куприна, «Мой Марс» И. Шмелева, «Дружище Тобик» К. Паустовского, «Джек» Г. Скребицкого, «Алый» Ю. Коваля и др.
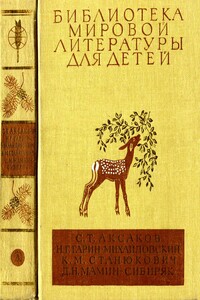
В том включены избранные произведения русских писателей-классиков — С. Т. Аксакова, Н. Г. Гарина-Михайловского, К. М. Станюковича, Д. Н. Мамина-Сибиряка.
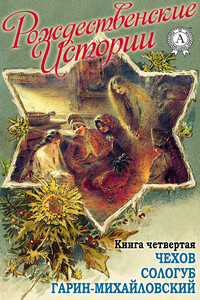
Четвертая книга из серии «Рождественские истории» познакомит вас с творениями русских писателей – Антоном Чеховым, Федором Сологубом и Николаем Гарином-Михайловским. Рождественскими мотивами богаты рассказы Чехова, в которых он в легкой форме пишет о детстве и о семье. Более тяжелые и философские темы в рассказах «накануне Рождества» затрагивают знаменитый русский символист Сологуб, а также писатель и по совместительству строитель железных дорог Гарин-Михайловский. «Рождественские истории» – серия из 7 книг, в которых вы прочитаете наиболее значительные произведения писателей разных народов, посвященные светлому празднику Рождества Христова.

Мифы и легенды народов мира — величайшее культурное наследие человечества, интерес к которому не угасает на протяжении многих столетий. И не только потому, что они сами по себе — шедевры человеческого гения, собранные и обобщенные многими поколениями великих поэтов, писателей, мыслителей. Знание этих легенд и мифов дает ключ к пониманию поэзии Гёте и Пушкина, драматургии Шекспира и Шиллера, живописи Рубенса и Тициана Брюллова и Боттичелли. Настоящее издание — это попытка дать возможность читателю в наиболее полном, литературном изложении ознакомиться с историей и культурой многочисленных племен и народов, населявших в древности все континенты нашей планеты. В данном томе представлены верования и легенды народов Восточной и Центральной Азии, чья мифология во все времена была окутана завесой тайны.

«Когда-то жил в одном городе молодой человек по имени Ко. Он был бедный и служил работником у своего соседа...».

«Многое изменилось на селе за эти восемьдесят лет, что прожила на свете бабушка Степанида. Все, кто был ей близок, кто знал ее радости, знал ее горе, – все уже в могиле…».

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается terra incognita — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел.

Научно-фантастический роман «Наследники», созданный известным в эмиграции писателем В. Я. Ирецким (1882–1936) — это и история невероятной попытки изменить течение Гольфстрима, и драматическое повествование о жизни многих поколений датской семьи, прошедшей под знаком одержимости Гольфстримом и «роковых страстей». Роман «Наследники», переиздающийся впервые, продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций фантастических и приключенческих произведений писателей русской эмиграции. Издание дополнено рецензиями П.
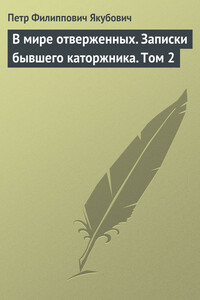
«…Следует прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводят людей в тюрьму и каторгу, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих в стране законов. Однако всем нам известно (и профессору тем более), что, например, пятьдесят лет назад, во времена «Записок из Мертвого Дома», в России существовал закон, по которому один человек владел другим как вещью, как скотом, и нарушение последним этого закона нередко влекло за собой ссылку в Сибирь и даже каторжные работы.
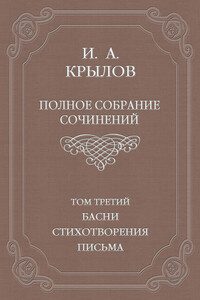
Настоящее издание Полного собрания сочинений великого русского писателя-баснописца Ивана Андреевича Крылова осуществляется по постановлению Совета Народных Комиссаров СССР от 15 июля 1944 г. При жизни И.А. Крылова собрания его сочинений не издавалось. Многие прозаические произведения, пьесы и стихотворения оставались затерянными в периодических изданиях конца XVIII века. Многократно печатались лишь сборники его басен. Было предпринято несколько попыток издать Полное собрание сочинений, однако достигнуть этой полноты не удавалось в силу ряда причин.Настоящее собрание сочинений Крылова включает все его художественные произведения, переводы и письма.
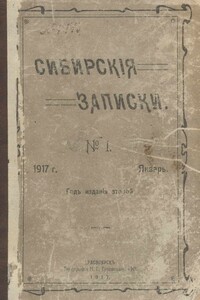
Рассказ о случайном столкновении зимой 1906 года в маленьком сибирском городке двух юношей-подпольщиков с офицером из свиты генерала – начальника карательной экспедиции.Журнал «Сибирские записки», I, 1917 г.
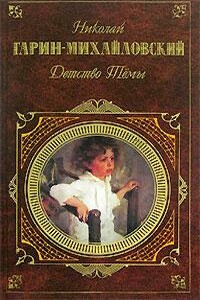
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.