Инсургент - [58]
— Гильотина или расстрел — одно из двух. И если нас расстреляют, — это можно будет счесть за удачу.
— Брр!.. А все-таки при мысли, что тебе перережут шею, невольно мороз пробегает по коже.
Товарищу, по-видимому, тоже не очень улыбается эта перспектива; но в глубине души у него все же таится надежда, что я разыгрываю комедию и нарочно для него придумал эту грядущую гекатомбу.
Однако надо отправляться на свой пост.
— Скажите, пожалуйста, где заседает Коммуна?
Я задаю этот вопрос во всех уголках ратуши. Прохожу по пустым залам, по залам, битком набитым народом, и никто не может дать мне никаких указаний.
Встречаю коллег; они добились не больше моего, но зато больше выходят из себя. Они выражают недовольство Центральным комитетом: смеется он, что ли, над ними, заставляя их напрасно ждать у запертых дверей?
Наконец мы нашли.
В бывшем помещении департаментской комиссии зажжены лампы, и мы можем там совещаться.
Высматриваем себе местечко, разыскиваем своих друзей, стараемся найти нужный тон и манеру вести себя.
Здесь голос не будет звучать так, как в танцевальных залах, приспособленных для грома турецких барабанов и раскатов здоровенных глоток: здешняя акустика не для бурных речей.
Говорящий не поднимется на трибуну, с высоты которой можно ронять жесты и метать взгляды.
В этом амфитеатре со скамьями каждый будет говорить со своего места, стоя в полумесяце своего пролета. Заранее можно сказать, что крылья у декламации будут подрезаны.
Нужны будут факты, а не фразы; жернова красноречия, перемалывающие зерна, а не мельница, вертящаяся от ветра громких слов.
Когда все уселись, когда Коммуна заняла место, — воцарилось глубокое молчание.
Но вдруг я почувствовал, как что-то дерет мне уши. Какой-то субъект, сидевший позади меня, поднялся и, встряхивая длинными, гладкими, как у немецкого пианиста, волосами, оставляющими сальные следы на воротнике его сюртука, и вращая тусклыми глазами за стеклами очков, стал протестовать срывающимся голосом против того, что сказал кто-то до него.
Этот «кто-то» — быть может, это был я сам — спросил, как уладят свое дельце избранники Парижа, являющиеся одновременно версальскими депутатами.
Ведь нужно же было знать, чего держаться.
Человек с волосами, свисающими точно ветви плакучей ивы, заявил, что после требований, предъявленных в таком тоне, он немедленно удаляется. И, перекинув пальто через руку, он вышел, хлопнув дверью.
Это не хитрая штука!
Но разве пришло мне в голову удрать, отряхнув прах от ног своих, когда мне стало ясно как день, что нас поглотит якобинское большинство?
Чем больше опасность, тем священнее долг оставаться на посту.
Почему же этот Тирар[186] не желает послужить тем, кто выбрал его представлять и защищать их интересы?
— Я присоединяюсь к правительству! Может быть, вы вздумаете меня арестовать? — крикнул он, бросая яростные взгляды из-под своих очков.
Успокойся, тебя не арестуют! И ты отлично знаешь это, подлый трус, — ты, у кого даже не хватает смелости присмотреться к возбужденному Парижу. Другие, может быть, тоже подадут в отставку, но они останутся жить на мостовой, откуда взвилось пламя революции, — пусть даже с риском, что оно поглотит их... Скатертью дорога!
Что же еще произошло в этот день? — Ничего. Организационное заседание!
При выходе кто-то подошел ко мне.
— А вы сейчас здорово огорчили Делеклюза. Он вообразил, что вы имели в виду именно его и даже чуть ли не указали на него, когда говорили о тех, кто колеблется между Парижем и Версалем.
— И он взбешен?
— Нет, он опечален.
Это верно. Складка презрения не бороздит уже его лицо; в глазах светится тревога, в опущенных углах губ притаилась тихая грусть.
Он чувствует себя выбитым из колеи среди этих блузников и бунтарей. Его республика имела свои строго начертанные пути, свои военные рубежи и межевые столбы, свою боевую тактику, свои пределы страданий и жертв.
Теперь все изменилось.
Растерянный, бродит он без авторитета и престижа среди этих людей, не имеющих еще ни программы, ни плана и не желающих никаких вождей.
И он, ветеран классической революции, легендарный герой каторги, он, претерпевший столько мук и в своем желании почета считавший, что имеет право на пьедестал дюйма в два высоты, — повержен на землю, и на него обращают внимания не больше, чем на Клемана[187], а слушают, может быть, даже меньше, чем этого красильщика с улицы Вожирар, явившегося в башмаках на деревянной подошве.
Я проникаюсь почтительной жалостью к этой печали, которую Делеклюз не может скрыть. Больно смотреть, как он старается прибавить шагу, чтобы поспеть в ногу с федератами. Его убеждения страдают, и он задыхается, обливается кровью в своем желании присоединиться к стремительному движению Коммуны.
Это усилие является как бы исповедью, раскаянием, безмолвным и героическим признанием в тридцатилетней несправедливости по отношению к тем, кого он обвинял в смутьянстве, считал изменниками, — и только потому, что они шли вперед быстрее, чем его комитет ветеранов Горы.
Его закаленное дисциплиной сердце не выдержало, и из глаз его брызнули искренние слезы; он поспешно подавил их, но они все же смягчили металлический блеск его взгляда и приглушили голос, когда он благодарил меня за мои объяснения. Я принес их ему с тем уважением, каким молодой обязан старику, которого он, не желая того, обидел и... заставил плакать.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
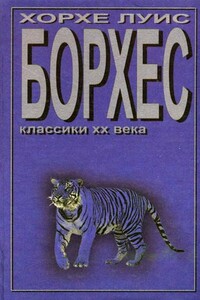
Прошла почти четверть века с тех пор, как Абенхакан Эль Бохари, царь нилотов, погиб в центральной комнате своего необъяснимого дома-лабиринта. Несмотря на то, что обстоятельства его смерти были известны, логику событий полиция в свое время постичь не смогла…
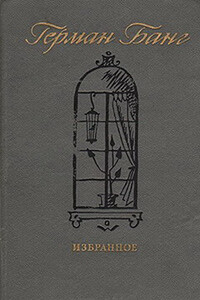
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
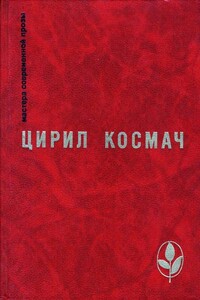
Цирил Космач (1910–1980) — один из выдающихся прозаиков современной Югославии. Творчество писателя связано с судьбой его родины, Словении.Новеллы Ц. Космача написаны то с горечью, то с юмором, но всегда с любовью и с верой в творческое начало народа — неиссякаемый источник добра и красоты.
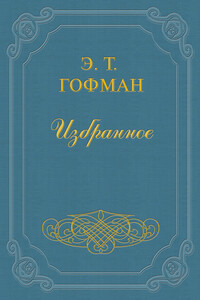
«В те времена, когда в приветливом и живописном городке Бамберге, по пословице, жилось припеваючи, то есть когда он управлялся архиепископским жезлом, стало быть, в конце XVIII столетия, проживал человек бюргерского звания, о котором можно сказать, что он был во всех отношениях редкий и превосходный человек.Его звали Иоганн Вахт, и был он плотник…».

Польская писательница. Дочь богатого помещика. Воспитывалась в Варшавском пансионе (1852–1857). Печаталась с 1866 г. Ранние романы и повести Ожешко («Пан Граба», 1869; «Марта», 1873, и др.) посвящены борьбе женщин за человеческое достоинство.В двухтомник вошли романы «Над Неманом», «Миер Эзофович» (первый том); повести «Ведьма», «Хам», «Bene nati», рассказы «В голодный год», «Четырнадцатая часть», «Дай цветочек!», «Эхо», «Прерванная идиллия» (второй том).
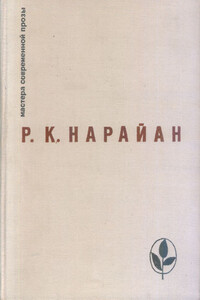
Рассказы Нарайана поражают широтой охвата, легкостью, с которой писатель переходит от одной интонации к другой. Самые различные чувства — смех и мягкая ирония, сдержанный гнев и грусть о незадавшихся судьбах своих героев — звучат в авторском голосе, придавая ему глубоко индивидуальный характер.