Иннокентий Анненский - [9]
Свет нездешний томил его; он не видел и роптал, - тоскуя, слепой и вещий, тешась игрой ума и оплакивая слепоту сердца, пламенно-непримиримый, безутешный. Эта двойственность, эта расколотость сознания и подсознательных порывов, действительно страшная, как "тяжелый, темный бред", была его пафосом, его болезнью, его пыткой.
В небе ли меркнет звезда,
Пытка ль земная все длится:
Я не молюсь никогда,
Я не умею молиться.
Время погасит звезду,
Пытку ж и так одолеем...
Если я в церковь иду,
Там становлюсь с фарисеем.
С ним упадаю я нем,
С ним и воспряну, ликуя...
Только во мне-то зачем
Мытарь мятется, тоскуя...
["Петербург"]
Русским представляется мне и то, что можно назвать "ницшеанством" Анненского - те выводы, которые он сделал, углубляя мысли Ницше-вагнерьянца о трагедии, "рожденной из духа музыки", - мысли о сострадании и ужасе. Ницше (для которого "Бог умер") увидел в античной трагедии источник "вод живых" и для современного человечества и призывал к трагедийному искусству грядущие поколения. Анненский, кажется, единственный писатель, поверивший ему до конца. "Романтик Ницше возводил ребячью сказку в высшие сферы духовной жизни", - замечает где-то {См.: И. Анненский, Три социальные драмы ("Власть тьмы"). - Иннокентий Анненский, Книги отражений, с. 63.} автор "Кипарисового ларца" и возвращается к этой мысли (говоря о "Горькой судьбине" Писемского) так: "Ужас и состраданье, которые еще Аристотель за двадцать два века до нашего времени определил как два главных трагических элемента, являются на двух полюсах художественной скалы наших ощущений: в ужасе, более чем в каком-либо другом чувстве, для человека весь мир сгущен в какой-то призрак, грозящий именно ему. В сострадании как раз наоборот: человек _совершенно забывает о своем существовании_, чтобы слить свое исстрадавшееся я с тем не-я, которому это страдание грозит... Сострадание и ужас в своих художественных отображениях никогда не могут перестать существовать в сфере человеческого творчества, и потому является совершенно химеричным предположение, по которому трагедия осуждается на вымирание". Приобщив дионисийскую музу свою трагедийному, очистительному пафосу, Анненский принялся за переводы Еврипида и сам стал писать трагедии, или "вакхические драмы" (по его терминологии), как бы продолжая труд учителя, но внося в классические "ребячьи сказки" - трепет и утонченнейшую скорбь своей, такой современной, изболевшей всеми соблазнами отрицания и всей русской тоской, души.
Пафос этих вакхических драм Вячеслав Иванов определяет как "_пафос обиды человека и за человека_". В частности, последняя, четвертая драма "Фамира-Кифаред" - в этом отношении особенно показательна
Иннокентий Федорович читал нам по рукописи своего "Кифареда" у себя в Царском Селе (посмертное издание вышло только десятью годами позже). Он любил это парадоксальное творение с эпиграфом Dis manibusque sacrum {Богам и теням умершим приношение (лат.).}, - может быть, искал, в этих белых ямбах забвенья от сердечной муки, которой была, по его признанию, вся жизнь:
Ведь если вслушаться в нее,
Вся жизнь моя - не жизнь, а мука.
["Петербург"]
Мы слушали его взволнованный голос, невольно поддавались акцентам этой, музыкой слов просветленной, горькой жалобе поэта, казавшегося нам загадочно-дряхлым и все же близким нашей юношеской мечтательности. Слушали и вероятно - тогда - очень многого не понимали. Теперь звучат совсем по-иному его трагические признания (в обращении Кифареда к Нимфе-матери):
...В моей судьбе
Ни матери, ни сестрам, ни отцу
Нет места, сладкозвучная: живу я
Для черно-звездных высей; лишь они
На языке замедленном и нежном,
Как вечера струисто-светлый воздух,
Мне иногда поют. И тот язык,
Как будто уловив его созвучья,
Я передать пытаюсь, но тоской,
Одной моей тоскою полны струны.
Ты не нужна мне, женщина, и нет
Прошедшего меж нас...
Вряд ли возник бы "Аполлон", не случись моей встречи с Иннокентием Федоровичем. После дягилевского "Мира искусства" Петербург нуждался в художественно-литературном журнале "молодых". Средства нашлись. Но я колебался долго. Не потому, что неясно представлял себе программу журнала, но потому что недоставало мне опытного старшего советчика (признанного всеми "ближайшими" в будущей редакции), чтобы придать авторитетность мне, только начинавшему тогда писателю, в трудной роли редактора и оградить меня от промахов. После первой же встречи с Анненским, - нас познакомил царскосел, юноша Гумилев, - я почувствовал, сколько неиспользованных духовных сил накопилось в этом молодом старце и как самоотверженно готов он погрузиться в общее наше дело, не претендуя ни на какое исключительное влияние, просто из преданности к литературе, из сочувствия к талантливой молодости, из желания быть услышанным ею, слиться с нею в работе, - ведь до того почти никто его не слышал и печататься ему было негде. И, действительно, со дня заключенного между нами "союза" Анненский принялся лихорадочно за статьи и стихи и стал с юношеским воодушевлением вышлифовывать "пьесы" своего "Кипарисового ларца". Несколько позже, когда я серьезно захворал и врачи опасались за исход моего плеврита, Анненский заезжал ко мне на Гусев переулок почти ежедневно и, по глубокой его встревоженности, я чувствовал, что ему не только отечески жаль меня лично, но что нестерпимо горько ему от мысли: вдруг вместе со мною рухнет и наше детище, журнал, и следовательно, все связанные с ним его, Анненского, творческие замыслы... Признаюсь, я так сердечно успел привязаться к Иннокентию Федоровичу за эти несколько месяцев знакомства, что горечь его, не столько жалость к опасно-больному, сколько опасение за участь неродившегося еще "Аполлона", - причиняла мне боль... Анненский оказался тем именно старшим помощником, какой был нужен мне. Начиная журнал, я хотел оставаться возможно объективнее в выборе матерьяла, не впадая в кружковщину и, тем паче, в редакторский непотизм, - Анненский был исключительно независим и терпим. Ничего общего не имея с поколением писателей, к которому сам принадлежал по возрасту, увлекаясь "новизной" начала века и глашатаями модернизма, он был отзывчив и ко многому из того, что молодежь зачеркивала одним росчерком пера, как отсталость и дурной вкус (все печатавшееся издательством "Знание" и большую часть того, что издавал "Шиповник", т. е. в первую очередь - литературу, отзывавшуюся бытом).

Сергей Маковский (1877–1962) — русский поэт Серебряного века и «первой волны» эмиграции, художественный критик и организатор художественных выставок, издатель.Автор девяти поэтических книг, восемь из которых вышли в эмиграции.В стихах Маковского с похвалой отмечали их традиционализм, чуждость экспериментаторским увлечениям, подчеркивали, что Маковский «трезвенно-мудро и с великой благодарностью принимает жизнь»; в то же время констатировали и определенную ограниченность его поэтического дарования: «…при всей его талантливости Маковскому чего-то не хватало, чтобы его стихи стали подлинной поэзией.
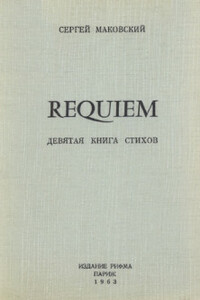
Сергей Маковский (1877–1962) — русский поэт Серебряного века и «первой волны» эмиграции, художественный критик и организатор художественных выставок, издатель. Автор девяти поэтических книг, восемь из которых вышли в эмиграции. О последнем прижизненном сборнике «Еще страница» Ю. Иваск писал, что стихи в нем «сродни поэзии позднего Тютчева… Маковский трезвенно-мудро и с великой благодарностью принимает жизнь». Девятый сборник стихов «Requiem» (Париж,1963) был издан посмертно сыном Маковского. Издатель модернистского «Аполлона», Маковский в своих собственных стихах тяготел к традиционным образцам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сергей Маковский (1877–1962) — русский поэт Серебряного века и «первой волны» эмиграции, художественный критик и организатор художественных выставок, издатель. Автор девяти поэтических книг, восемь из которых вышли в эмиграции. О последнем прижизненном сборнике «Еще страница» Ю. Иваск писал, что стихи в нем «сродни поэзии позднего Тютчева… Маковский трезвенно-мудро и с великой благодарностью принимает жизнь». Издатель модернистского «Аполлона», Маковский в своих собственных стихах тяготел к традиционным образцам.

Цель этого издания — показать Гумилева как поэта и как живого человека, как личность в живом окружении, в общении, разговорах и живой деятельности, — словом, сделать более близким для нас человека, обогатившего русскую литературу, повлиявшего на современников и потомков, на сам процесс поэтического развития.
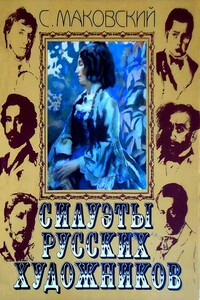
Сын известного художника Константина Маковского Сергей Маковский (1877–1962) ярко проявил себя как историк искусства, организатор многих выставок и один из ведущих художественных критиков. С. Маковский возглавлял знаменитый журнал «Аполлон», его «Страницы художественной критики», вошедшие в настоящее издание, были хорошо известны любителям искусства. Оказавшись в эмиграции, С. Маковский еще более упрочил свой авторитет искусствоведа и критика. Его книги «Силуэты русских художников», «Последние итоги живописи», включенные в этот том, впервые издаются в России.Книга проиллюстрирована репродукциями с произведений А. Бенуа, К. Сомова, Л. Бакста, В. Борисова-Мусатова, М. Добужинского, М. Врубеля, Н. Рериха и других художников.Для широкого круга читателей.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.