Иллюзии. 1968—1978 (Роман, повесть) - [39]
Мы поздоровались. Отец улыбался. В его улыбке проскользнула тень смущения, и поэтому она снова напомнила мне улыбку Саши Мягкова, когда тот однажды сжульничал в одной из наших детских игр. Искусственная, закрытая улыбка — симуляция радости. Впрочем, такой она могла показаться в связи с плохим освещением и тем напряженным состоянием, в котором я все еще находился. Так улыбался отец когда-то при встречах с мамой. Именно так улыбался Саша Мягков задолго до того, как его нашли на железнодорожной платформе отравившимся метиловым спиртом. Улыбка, которую я уловил, не вязалась с крепкой фигурой отца, а фигура не вязалась с теми давно потерявшими цвет гимнастеркой и галифе, которые были теперь на нем и которые я помнил еще по Лукину. Вместе с немногими вещами он забрал с собой эту улыбку и эту старую рабочую одежду.
В глубине сада виднелся сарай, освещенный изнутри электричеством, откуда поступал к калитке тщедушный, рассеянный свет. Ночью за городом освещение таких небольших строений, спрятанных в темных углах, невольно вызывает мысль о карнавале или балаганчике. На участке только один этот сарай был освещен, а основного дома, замаскированного живой стеной виноградных листьев, кустами и темнотой, почти не было видно.
Пока мы шли к сараю, отец продолжал улыбаться одними губами, отчего щеки сбились в плотные шарики, и время от времени повторял:
— Ну, как вы там?
Я отвечал:
— Все по-прежнему. Все хорошо, — и читал в его лице нетерпение. — Наверное, оторвал тебя от работы?
Я избегал называть его отцом или папой — в этих словах чудилась мне фальшь — и обращался безлично: т ы.
— Ничего, — сказал он, и комочки еще энергичнее запрыгали на лице, будто кто-то особенно старался, дергая их за невидимые нити. — Как мама?
— По-прежнему.
— Бабушка еще жива?
— Жива.
Тот, кто со стороны мог видеть нас, наверняка получил бы удовольствие от этого поистине театрального зрелища: этакий городской хлыщ в узконосых туфлях и труженик в рабочей одежде. На самом деле, несмотря на внешнюю несхожесть, мы стояли на одной социальной ступеньке — отец и сын, инженер и преподаватель. Тем не менее он с недоверием поглядывал на мой костюм, его коробили отдельные мои слова, которые, я знаю, он считал чересчур мудреными, и вообще, будучи сторонником простоты во всем, он, по-моему, где-то в душе не мог примириться с тем, что я и есть его сын.
Видимо, причину нынешнего моего положения он стал бы искать в испорченности, тогда как я склонен скорее отнести ее к беззащитности.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Собака лаяла не переставая, рвалась с цепи при виде чужого, и нам пришлось обойти ее конуру стороной. Отец прикрикнул, но пес, не послушавшись, продолжал надрываться. Мы вошли в сарай. У правой стены стоял верстак, на котором лежали молоток, рубанки, стамески, наполовину обструганный столбик в метр высотой, а пол был завален белыми стружками, мягко шуршащими под ногами.
— Ты садись, — сказал отец, поправил старую пилотку на голове и взял в руки рубанок.
Я сел на табуретку, стоящую в углу мастерской, и заметил, как успокоились его щеки, каким свободным и блаженным стало вдруг выражение лица, словно издерганному отсутствием табака курильщику дали наконец сигарету. Я не смог найти более удачного сравнения, когда увидел столь разительную перемену, хотя отец никогда не курил и пил не больше благовоспитанных барышень девятнадцатого столетия. Казалось, каждая минута, потерянная для работы, доставляла ему невыносимое страдание. Точно человек, которого мучают по ночам кошмары, он пытался работать как можно больше, чтобы подольше не ложиться в постель, устать и не видеть снов.
Все-таки в Лукине он был другим. В его движениях, в выражении лица было больше силы и достоинства. Правда, с тех пор прошло более двадцати лет. Он сильно постарел. Жалел ли он о том, что некогда обрубил «окончательно и бесповоротно»? Не думаю. Скорее всего, сожалению он предпочел заботу о своем обрубке, который нужно было постоянно массировать, дабы тот не разболелся всерьез. И он массировал, строгал столбики, каковые в дальнейшем намеревался забить по периметру участка, протянув между ними тонкие нити. Замысел означал хитроумную систему защиты сада от воров с электрической сигнализацией, со звонком и загорающимися электрическими лампочками — что-то похожее на детскую игру.
С тщательностью, всегда ему свойственной, отец поочередно двумя рубанками строгал дерево, довольный тем, что я не мешал работать и не задавал лишних вопросов. У меня их попросту не было, и я, в свою очередь, был благодарен отцу, в них не нуждавшемуся.
Равномерные звуки снимаемой стружки усыпляли. Тело одеревенело от продолжительного неподвижного сидения на табурете, и все ощущения покинули его, точно тебе на лицо надели маску с наркозом и теперь наступала общая анестезия: ты уже начал сбиваться со счета, который заставляла вести дающая наркоз сестра.
Очнувшись от дремы в тот момент, когда отец перестал строгать и отложил рубанок, я почувствовал слабость и прилив тошнотворной сентиментальности: мираж, что я снова дома и что этот сильный пожилой человек, рассматривающий на свет по касательной, ровный ли получился столбик, — мой отец. Мой отец! Я могу ему все рассказать, поплакать на его плече, могу, наконец, остаться здесь навсегда. Но волна довольно быстро схлынула, муть осела.
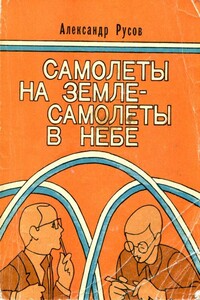
Повести и рассказы, вошедшие в сборник, посвящены судьбам современников, их поискам нравственных решений. В повести «Судья», главным героем которой является молодой ученый, острая изобразительность сочетается с точностью и тонкостью психологического анализа. Лирическая повесть «В поисках Эржебет Венцел» рисует образы современного Будапешта. Новаторская по характеру повесть, давшая название сборнику, рассказывает о людях современной науки и техники. Интерес автора сосредоточен на внутреннем, духовном мире молодых героев, их размышлениях о времени, о себе, о своем поколении.

В 1977 году вышли первые книги Александра Русова: сборник повестей и рассказов «Самолеты на земле — самолеты в небе», а также роман «Три яблока», являющийся первой частью дилогии о жизни и революционной деятельности семьи Кнунянцев. Затем были опубликованы еще две книги прозы: «Города-спутники» и «Фата-моргана».Книга «Суд над судом» вышла в серии «Пламенные революционеры» в 1980 году, получила положительные отзывы читателей и критики, была переведена на армянский язык. Выходит вторым изданием. Она посвящена Богдану Кнунянцу (1878–1911), революционеру, ученому, публицисту.
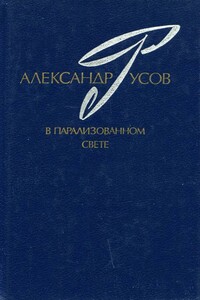
В книгу вошли лирико-драматическая повесть «Записки больного» и два трагикомических романа из цикла «Куда не взлететь жаворонку». Все три новых повествования продолжают тему первой, ранее опубликованной части цикла «Иллюзии» и, являясь самостоятельными, дают в то же время начало следующей книге цикла. Публикуемые произведения сосредоточены на проблемах и судьбах интеллигенции, истоках причин нынешнего ее положения в обществе, на роли интеллектуального начала в современном мире.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.