Идиот - [4]
Кинопрофессор был простужен еще больше, чем я. Его простуда казалась подарком, как по волшебству. Мы встретились в одном из цокольных помещений, заполненном мерцающими голубыми экранами. Я рассказала ему о матери, и мы некоторое время вместе чихали. Это – единственный установочный курс, куда меня взяли.
Я отправилась в буфет студенческого центра за диетической колой. Парень передо мной совершал покупку целую вечность. Сначала он хотел холодный чай, но его не оказалось.
– Лимонад есть? – спросил он.
– Есть в банках и в бутылках.
– А марка одна и та же?
– В бутылках «Снэппл», а в банках, э-э-э, «Кантри Тайм».
– Бутылку лимонада и слойку с яблоками.
– С яблоками нету. Есть с сыром или малиной.
– Ясно. А печеная картошка есть?
– Именно печеная?
Это был самый скучный на свете диалог, но я почему-то слушала, не отрываясь. Он продолжался, пока парень, наконец, не собрался уходить, расплатившись за лимонад «Снэппл» и маффин с черникой.
– Извините, что так долго, – сказал парень. Он был довольно симпатичный.
– Ничего, – ответила я.
Он улыбнулся и пошел было к выходу, но вдруг в нерешительности остановился.
– Селин?
– Ральф! – воскликнула я, узнав в нем того самого Ральфа.
С Ральфом мы познакомились прошлым летом на программе для старшеклассников, где ты пять недель живешь в нью-джерсийском домике, изучая североевропейское Возрождение. С ним нас свело то, что учительница по истории искусств на каждой лекции, независимо от темы, непременно упоминала дожа Венеции, которого называла просто «дож». Она могла рассказывать о повседневной жизни дельфтских бюргеров, и всё равно там появлялся дож. Похоже, никто, кроме нас двоих, этого не замечал или не находил смешным.
Сейчас, когда мы сидели за своими напитками и его плюшкой, наша беседа казалась мне несколько фантастической: я обнаружила, что совсем забыла, насколько хорошо мы успели познакомиться прошлым летом. Помню, меня восхищал его талант изображать других людей. Еще я поняла, что откуда-то знаю массу информации о его пяти тетках, а это больше, чем обычно знаешь о другом человеке, если вы с ним не близкие друзья. В то же время Ральф в моем сознании почему-то попал в категорию людей, с которыми мне никогда по-настоящему не подружиться: он был слишком привлекательным и искусно выстраивал отношения со взрослыми. Моя мать таких называла по-турецки «семейный мальчик»: аккуратный, учтивый, из тех, кто с готовностью наденет костюм или поддержит беседу с друзьями родителей. Матери Ральф пришелся очень даже по душе.
Мы с Ральфом обсудили наши собеседования на установочные семинары. У Ральфа собеседование проводил нобелевский лауреат по физике, он задал Ральфу единственный вопрос, а потом заставил вымыть какое-то лабораторное оборудование. Возможно, это был детектор гамма-излучения.
Я подала заявку на курс под названием «Строительство миров» на отделении студийного искусства. Наша первая встреча с преподавателем, приглашенным художником из Нью-Йорка, прошла в заставленный пустыми белыми столами студии, куда я принесла портфолио своих школьных работ. Приглашенный художник искоса взглянул мне в лицо.
– Всё-таки сколько вам лет? – спросил он.
– Восемнадцать.
– Господи! У нас же занятия не для первокурсников.
– Ясно. Я ухожу?
– Нет, не глупите. Давайте ваши работы, – он продолжал смотреть не на портфолио, а на меня. – Восемнадцать, – повторил он, качая головой. – В вашем возрасте я закидывался кислотой и прогуливал школу. А летом работал на рыбокомбинате в Секокусе. Секокус, Нью-Джерси, – он посмотрел на меня неодобрительно, словно подозревал меня в невежестве.
– Возможно, в вашем возрасте я буду делать то же самое, – предположила я.
– А, ну конечно, – он хихикнул и надел очки. – Ладно, посмотрим, что тут у нас, – не произнося ни слова, он принялся за картинки. Я глядела в окно на двух белок, взбегающих по дереву. Одна из них не удержалась и рухнула, рассекая ярусы листвы. Такого я раньше никогда не видела.
– Ну вот смотрите, – наконец произнес приглашенный художник. – Композиция ваших рисунков… ну, нормально. Ведь я могу быть с вами откровенным? Но эти картины кажутся мне… несколько девчоночьими. Понимаете, что я имею в виду?
Я посмотрела на картинки, которые он разложил на столе. Не могу сказать, чтобы я его не понимала.
– Дело в том, – ответила я, – что еще совсем недавно я и была девчонкой.
Он рассмеялся.
– Верно, верно! Что ж, я приму решение к выходным. Я дам знать. А может, и не дам.
Ханна хотела работать экскурсоводом по кампусу. Я слышала, как по утрам в душе она обворожительным голосом декламирует информацию о Гарварде. Работу она не получила, декламации прекратились, и я обнаружила, что немного по ним скучаю.
С Анжелой мы ходили на ознакомительную встречу в редакцию гарвардской студенческой газеты, где молодой человек с бакенбардами неустанно – и весьма агрессивным тоном – повторял, что гарвардская газета – это вся его жизнь. «Это моя жизнь», – злобно твердил он. Мы с Анжелой переглядывались.
В воскресенье вечером зазвонил телефон. Это был приглашенный художник.
– Ваше эссе вызывает некоторый интерес, – сказал он. – Остальные эссе, на самом деле, большей частью ужасно… скучные. Так что я, собственно, буду рад видеть вас на своих занятиях.

«Лишний человек», «луч света в темном царстве», «среда заела», «декабристы разбудили Герцена»… Унылые литературные штампы. Многие из нас оставили знакомство с русской классикой в школьных годах – натянутое, неприятное и прохладное знакомство. Взрослые возвращаются к произведениям школьной программы лишь через много лет. И удивляются, и радуются, и влюбляются в то, что когда-то казалось невыносимой, неимоверной ерундой.Перед вами – история человека, который намного счастливее нас. Американка Элиф Батуман не ходила в русскую школу – она сама взялась за нашу классику и постепенно поняла, что обрела смысл жизни.

Вы верите в судьбу? Говорят, что судьба — это череда случайностей. Его зовут Женя. Он мечтает стать писателем, но понятия не имеет, о чем может быть его роман. Ее зовут Майя, и она все еще не понимает, чего хочет от жизни, но именно ей суждено стать героиней Жениной книги. Кто она такая? Это главная загадка, которую придется разгадать юному писателю. Невозможная девушка? Вольная птица? Простая сумасшедшая?

Действие романа «Дети Розы» известной английской писательницы, поэтессы, переводчицы русской поэзии Элейн Файнстайн происходит в 1970 году. Но героям романа, Алексу Мендесу и его бывшей жене Ляльке, бежавшим из Польши, не дает покоя память о Холокосте. Алекс хочет понять природу зла и читает Маймонида. Лялька запрещает себе вспоминать о Холокосте. Меж тем в жизнь Алекса вторгаются английские аристократы: Ли Уолш и ее любовник Джо Лейси. Для них, детей молодежной революции 1968, Холокост ничего не значит, их волнует лишь положение стран третьего мира и борьба с буржуазией.
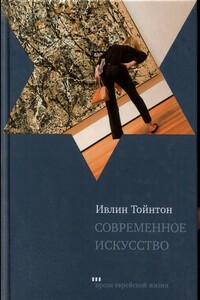
Прототипы героев романа американской писательницы Ивлин Тойнтон Клея Мэддена и Беллы Прокофф легко просматриваются — это знаменитый абстракционист Джексон Поллок и его жена, художница Ли Краснер. К началу романа Клей Мэдден уже давно погиб, тем не менее действие вращается вокруг него. За него при жизни, а после смерти за его репутацию и наследие борется Белла Прокофф, дочь нищего еврейского иммигранта из Одессы. Борьба верной своим романтическим идеалам Беллы Прокофф против изображенной с сатирическим блеском художественной тусовки — хищных галерейщиков, отчаявшихся пробиться и оттого готовых на все художников, мало что понимающих в искусстве нравных меценатов и т. д., — написана Ивлин Тойнтон так, что она не только увлекает, но и волнует.

«Когда быт хаты-хаоса успокоился и наладился, Лёнька начал подгонять мечту. Многие вопросы потребовали разрешения: строим классический фанерный биплан или виману? Выпрашиваем на аэродроме старые движки от Як-55 или продолжаем опыты с маховиками? Строим взлётную полосу или думаем о вертикальном взлёте? Мечта увязла в конкретике…» На обложке: иллюстрация автора.

В этом немного грустном, но искрящемся юмором романе затрагиваются серьезные и глубокие темы: одиночество вдвоем, желание изменить скучную «нормальную» жизнь. Главная героиня романа — этакая финская Бриджит Джонс — молодая женщина с неустроенной личной жизнью, мечтающая об истинной близости с любимым мужчиной.
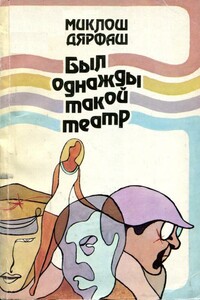
Популярный современный венгерский драматург — автор пьесы «Проснись и пой», сценария к известному фильму «История моей глупости» — предстает перед советскими читателями как прозаик. В книге три повести, объединенные темой театра: «Роль» — о судьбе актера в обстановке хортистского режима в Венгрии; «История моей глупости» — непритязательный на первый взгляд, но глубокий по своей сути рассказ актрисы о ее театральной карьере и семейной жизни (одноименный фильм с талантливой венгерской актрисой Евой Рутткаи в главной роли шел на советских экранах) и, наконец, «Был однажды такой театр» — автобиографическое повествование об актере, по недоразумению попавшем в лагерь для военнопленных в дни взятия Советской Армией Будапешта и организовавшем там антивоенный театр.