Идиллия - [7]
– Ишь вихрются, подумаешь!
– Уж и не говори… Чистые суки!
Отец Вассиан был шустрый человечек. Худой, длинный, носастенький, он вечно сгорал какой-то неутомимой жаждой порицания и вместе с тем был хлопотлив и непоседлив. Широкие рукава его замасленной ряски вечно раздувались от движения непокойных рук, деловое выражение не сходило с лица, язык не умолкал ни на минуту.
Он мне обрадовался и тотчас же с гордостью сообщил, что ждет «его – ство» (так величал он статского советника Гермогена). Жидкие волосы его были на этот раз обильно политы маслом, новая ряса гремела как коленкор, движения более чем когда-либо были беспокойны и порывисты.
За мною стали и еще подъезжать гости. Приехал тщедушный попик из Больших Лесков, отец Симеон, – низенький, костлявый, с язвительной улыбкой на устах и с задорным пунцовым носом. Припожаловал отец Досифей из Кутайсовки, – тучное страшилище с литавроподобной октавой, львиной гривой на голове и осовелыми очами. С ним прибыла и «матушка», женщина тоже обширная, но под впечатлением тяжелого Досифеева взгляда постоянно находившаяся в каком-то столбняке.
Вообще гостей набралось достаточно. Были еще два-три попа с супругами в желтых и зеленых платьях – я их не знал; был красноярский дьякон, родственник отца Вассиана, смиренное и забитое существо, к тому же изрядно подвыпившее. Он все держался в сторонке и, видимо, робел. Кроме духовенства присутствовали: местный лавочник, темный и почтительный человек, и дебелый купец-хуторянин с супругой, похожей на французскую булку, затем вернулся с катанья и Чумаков с компанией.
Сдобная Лизавета Петровна (супруга отца Вассиана) тотчас же вступила в свои права и бойко забегала по комнатам, немилосердно гремя своими туго накрахмаленными юбками.
Гости понаехали как-то вдруг. Не успевал еще раздеться и разгладить перед зеркалом смятую физиономию один, и не успевали еще хозяева радушно перекинуться с ним обычными в этих случаях фразами о здоровье, о семье, о погоде, – как на дворе снова раздавался скрип саней, и в переднюю вваливался новый гость, и хозяева опрометыо спешили к нему навстречу и с приятными улыбками вводили его в залу.
И после первых приветствий каждому гостю не без гордости сообщалось, что ожидается приезд «его – ства». Это производило сенсацию. На многих лицах известие вызывало благоговение, на иных – испуг, на других – мимолетное чувство зависти.
Но время текло, а «его – ство» не появлялся. Это, наконец, начинало беспокоить отца Вассиана. Он уже с явным нетерпением подбегал к окну всякий раз, как мимо домика проезжали чьи-либо сани, и всякий раз отходил от окна, тревожно покусывая тонкие губы и слегка бледнея. А отец Симеон, с обычною ему тонкостью подметив эти маневры, процедил с видом ядовитейшего смирения:
– Замешкались, однако, его – ство… Уж будут ли?.. Не ошиблись ли вы, отец Вассиан?
Все мы – мужчины – собрались в зале. Дамы тараторили в гостиной, где между прочим стояли и клавикорды, где-то по случаю приобретенные отцом Вассианом.
Но настроение среди нас явно было натянутое. Ожидание «его – ства» как-то необычайно напрягало все наши нервы и делало их совершенно нечувствительными для всяких других ощущений. Пробовали мы говорить о погоде – и замолкали; о «Епархиальных ведомостях» – тоже замолкали… О новостях околотка – и тут замолкали. Одним словом, совершенно ничего не удавалось. На отца Вассиана даже жаль смотреть было, – весь он вспотел и покрылся какими-то багровыми пятнами.
Это настроение оживил было отец Досифей. Когда на столе появились бутылки – известная водка «железная дорога», историческая «дрей-мадера» с вечным запахом жженой пробки, семигривенный херес и еще какие-то таинственные сосуды, – и поднос с закусками, – чахлые сардинки, бойко отдававшие деревянным маслом, заскорузлая паюсная икра, селедка с луком и еще какая-то таинственная коробка, – отец Досифей изъявил отважность, достойную римлянина: он без приглашения хозяина (на ту пору уже окончательно пришедшего в смущение) и сам подошел и других пригласил решительным мановением руки к соблазнительной батарее. И все сразу повеселели и воспрянули духом.
Но на грех и тут отец Вассиан испортил дело. Догадало отца Досифея взять какую-то крохотную бутылочку (из числа таинственных сосудов), а отца Симеона – протянуть руку к таинственной коробке, и отец Вассиан вскочил как ошпаренный и с ужасом в широко раскрытых глазах закричал:
– Отец Досифей! Отец Симеон! Что вы делаете – ведь это для «его – ства»!..
В бутылочке оказалось шестирублевое fine champagne[12], а в коробке маринованная осетрина. Конечно, отцы тотчас же, и даже с некоторым испугом, оставили и осетрину и дорогое вино, но тем не менее вопль отца Вассиана как-то неприятно подействовал на всех нас. Казалось, какое-то угнетение посетило наши души.
Но бог милосерд, и широкие пошевни показались, наконец, на улице. Это ехал Гермоген Пожарский. Все общество залы, толкаясь и оттесняя друг друга, присыпало к окнам. Лица являли неизъяснимое волнение. Отец Досифей покраснел, подобно пятаку из старой меди; отец дьякон был бледен, как мертвец; у отца Симеона дрожали губы, а у одного иерея судорожно косило уста. Даже купец с лавочником, и те струхнули. Что касается Сережи Чумакова, то он в сопровождении писаря и фельдшера скрылся еще заблаговременно, и, конечно, не из опасения его – ства, – он был не из пугливых, – а просто для иных каких-либо целей.

Рассказы «Записки Cтепняка» принесли большой литературных успех их автору, русскому писателю Александру Эртелю. В них он с глубоким сочувствием показаны страдания бедных крестьян, которые гибнут от голода, болезней и каторжного труда.В фигурные скобки { } здесь помещены номера страниц (окончания) издания-оригинала. В электронное издание помещен очерк И. А. Бунина "Эртель", отсутствующий в оригинальном издании.

«…превозмогающим принципом был у него один: внесть в заскорузлую мужицкую душу идею порядка, черствого и сухого, как старая пятикопеечная булка, и посвятить этого мужика в очаровательные секреты культуры…».

«И стал с этих пор скучать Ермил. Возьмет ли метлу в руки, примется ли жеребца хозяйского чистить; начнет ли сугробы сгребать – не лежит его душа к работе. Поужинает, заляжет спать на печь, и тепло ему и сытно, а не спокойно у него в мыслях. Представляется ему – едут они с купцом по дороге, поле белое, небо белое; полозья визжат, вешки по сторонам натыканы, а купец запахнул шубу, и из-за шубы бумажник у него оттопырился. Люди храп подымут, на дворе петухи закричат, в соборе к утрене ударят, а Ермил все вертится с бока на бок.

«– А поедемте-ка мы с вами в Криворожье, – сказал мне однажды сосед мой, Семен Андреич Гундриков, – есть там у меня мельник знакомый, человек, я вам скажу, скотоподобнейший! Так вот к мельнику к этому…».

«С шестьдесят первого года нелюдимость Аристарха Алексеича перешла даже в некоторую мрачность. Он почему-то возмечтал, напустил на себя великую важность и спесь, за что и получил от соседних мужиков прозвание «барина Листарки»…

«Мужик допахал полосу; перевернул кверху сошниками соху, посмотрел из-под руки на закат, обратясь к востоку медленно и размашисто перекрестился, ласково огладил тяжело дышавшую кобылу, и, с усилием взвалившись на нее верхом, поехал по меже к поселку…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том трехтомного издания прозы и эссеистики М.А. Кузмина вошли повести и рассказы 1906–1912 гг.: «Крылья», «Приключения Эме Лебефа», «Картонный домик», «Путешествие сера Джона Фирфакса…», «Высокое искусство», «Нечаянный провиант», «Опасный страж», «Мечтатели».Издание предназначается для самого широкого круга читателей, интересующихся русской литературой Серебряного века.К сожалению, часть произведений в файле отсутствует.http://ruslit.traumlibrary.net.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.Книга «За рубежом» возникла в результате заграничной поездки Салтыкова летом-осенью 1880 г. Она и написана в форме путевых очерков или дневника путешествий.
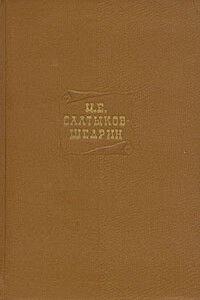
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника».
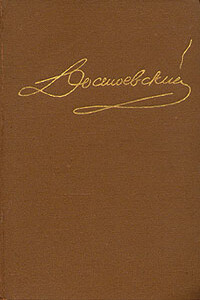
В Тринадцатом томе Собрания сочинений Ф. М. Достоевского печатается «Дневник писателя» за 1876 год.http://ruslit.traumlibrary.net.

В девятнадцатый том собрания сочинений вошла первая часть «Жизни Клима Самгина», написанная М. Горьким в 1925–1926 годах. После первой публикации эта часть произведения, как и другие части, автором не редактировалась.http://ruslit.traumlibrary.net.