Идея сверхчеловека - [3]
Этот внутренний рост, совершающийся в истории, отражается, конечно, и на внешнем виде человека, но в чертах, для биологии несущественных, нетипичных. Одухотворение человеческой наружности не изменяет анатомического типа, и, как бы высоко ни поднималось созерцание гения, все-таки и самый грубый дикарь имеет одинаковое с ним строение головы, позволяющее ему свободно смотреть в беспредельное небо.
III
Не создается историей и не требуется никакой новой, сверхчеловеческой формы организма, потому что форма человеческая может беспредельно совершенствоваться и внутренне и наружно, оставаясь при этом тою же: она способна по своему первообразу, или типу, вместить и связать в себе все, стать орудием и носителем всего, к чему только можно стремиться, — способна быть формою совершенного всеединства, или божества.
Такая морфологическая устойчивость и законченность человека как органического типа нисколько не противоречит признаваемой нами истине в стремлении человека стать больше и лучше своей действительности, или стать сверхчеловеком, потому что истинность этого стремления относится не к тем или другим формам человеческого существа, а лишь к способу его функционирования в этих формах, что ни в какой необходимой связи с самими формами не находится. Мы можем, например, быть недовольны действительным состоянием человеческого зрения, но не тем, конечно, что у нас только два глаза, а лишь тем, что мы ими плохо видим. Ведь для того, чтобы видеть лучше, человеку нет никакой надобности в изменении морфологического типа своего зрительного органа. Ему вовсе не нужно вместо двух глаз иметь множество, потому что при тех же двух глазах слабость зрения (в смысле буквальном) устраняется посредством придуманных самим же человеком зрительных труб, телескопов и микроскопов; а в более высоком смысле при тех же двух глазах у человека могут раскрыться "вещие зеницы, как у испуганной орлицы", при тех же двух глазах он может стать пророком и сверхчеловеком, тогда как при другой органической форме существо, хотя бы снабженное и сотнею глаз, остается только мухой.
IV
Как наш зрительный орган, точно так же и весь прочий организм человеческий, ни в какой нормальной черте своего морфологического строения не мешает нам подниматься над нашей дурною действительностью и становиться относительно ее сверхчеловеками. Препятствия тут могут идти лишь с функциональной стороны нашего существования, и притом не только в единичных и частных уклонениях патологических, но и в таких явлениях, которых обычность заставляет многих считать иx нормальными.
Таково прежде и более всего явление смерти. Если чем естественно нам тяготиться, если чем основательно быть недовольным в данной действительности, то, конечно, этим заключительным явлением всего нашего видимого существования, этим его наглядным итогом, сводящимся на нет. Человек, думающий только о себе, не может помириться с мыслью о своей смерти; человек, думающий о других, не может примириться с мыслью о смерти других: значит, и эгоист, и альтруист — а ведь логически необходимо всем людям принадлежать, в разной степени чистоты или смешения, к той или другой из этих нравственных категорий, — и эгоист, и альтруист одинаково должны чувствовать смерть как нестерпимое противоречие, одинаково не могут принимать этот видимый итог человеческого существования за окончательный. И вот на чем должны бы по логике сосредоточить свое внимание люди, желающие подняться выше наличной действительности — желающие стать сверхчеловеками. Чем же, в самом деле, особенно отличается то человечество, над которым они думают возвыситься, как не тем именно, что оно смертно?
"Человек" и "смертный" — синонимы. Уже у Гомера люди постоянно противополагаются бессмертным богам именно как существа, подверженные смерти. Хотя и все прочие животные умирают, но никому не придет в голову характеризовать их как смертных — для человека же не только этот признак принимается как характерный, но и чувствуется еще в выражении "смертный" какой-то тоскливый упрек себе, чувствуется, что человек, сознавая неизбежность смерти как существенную особенность своего действительного состояния, решительно не хочет с нею мириться, нисколько не успокаивается на этом сознании ее неизбежности в данных условиях. И в этом, конечно, он прав, потому что если смерть совершенно необходима в этих наличных условиях, то кто же сказал, что сами эти условия неизменны и неприкосновенны?
Животное не борется (сознательно) со смертью и, следовательно, не может быть ею побеждаемо, и потому его смертность ему не в укор и не в характеристику; человек же есть прежде всего и в особенности "смертный" — в смысле побеждаемого, преодолеваемого смертью. А если так, то, значит, "сверхчеловек" должен быть прежде всего и в особенности победителем смерти — освобожденным освободителем человечества от тех существенных условий, которые делают смерть необходимою, и, следовательно, исполнителем тех условий, при которых возможно или вовсе не умирать, или, умерев, воскреснуть для вечной жизни. Задача смелая. Но смелый — не один, с ним Бог, который им владеет. Допустим, что и с этой помощью при теперешнем состоянии человечества победа над смертью не может быть достигнута вообще в пределах единичного существования. Хотя в этом позволено сомневаться, ибо нет возможности доказать это заранее, до опыта, но допустим как будто бы доказанное, что каждый из нас, людей исходящего и наступающего века и многих последующих веков, непременно умрет, не приготовив себе и другим немедленного воскресения. Положим, цель далека и теперь, как она оказалась далекой для тех неразумных христиан первого века, которые думали, что вечная жизнь в воскресших и нетленных телах сейчас же упадет к ним с неба, — положим, она далека и теперь. Но ведь путь-то, к ней ведущий, приближение к ней по этому пути, хотя бы и медленное, исполнение, хотя бы и несовершенное, но все совершенствующееся, тех условий, полнота которых требуется для торжества над смертью, — это-то ведь, несомненно, возможно и существует действительно.
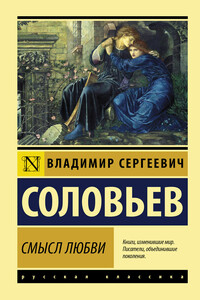
Любовь возвышенная и плотская, война и непротивление злу насилием, грядущие судьбы человечества, восстановление в человеке уже почти утраченного им божественного начала и мистическая «душа мира» София, культивирование самоотречения ради духовного единства и миссия России как восстановительницы истинно христианского идеала общественной жизни – вот основные темы произведений, вошедших в сборник. Состав издания: «Чтения о богочеловечестве», «Смысл любви», «Идея сверхчеловека», «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об Антихристе». В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
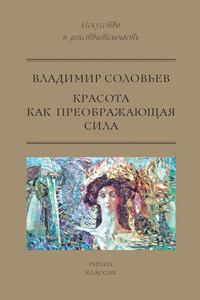
Владимир Соловьев – одна из важнейших фигур в русской культуре, гениальная и разносторонняя личность, оказавшая огромное влияние на целое поколение мыслителей, писателей и поэтов Серебряного века. В эстетике Соловьев развил мысль о деятельном искусстве, которое, воскрешая образы прошлого, воскрешает в человеке его самую подлинную любовь. Сколь ни были бы разнообразны предметы, которыми занимался Соловьев, одно общее в них: переживание мысли как живого существа. Мысль для него – та глубина в нас самих, о которой мы не догадываемся так же, как мы не догадываемся о своей влюбленности, пока не влюбимся.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
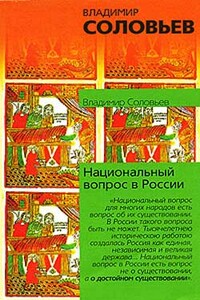
Владимир Сергеевич Соловьев - крупнейший представитель российской религиозной философии второй половины XIXв., знаменитый своим неортодоксальным мистическим учением о Софии - Премудрости Божьей, - учением, послужившим основой для последующей школы софиологии.Мистицизм Соловьева, переплетающийся в его восприятии с теорией универсума - «всеединства», оказал значительное влияние на развитие позднейшего русского идеализма.

Эта книга отправляет читателя прямиком на поле битвы самых ярких интеллектуальных идей, гипотез и научных открытий, будоражащих умы всех, кто сегодня задается вопросами о существовании Бога. Самый известный в мире атеист после полувековой активной деятельности по популяризации атеизма публично признал, что пришел к вере в Бога, и его взгляды поменялись именно благодаря современной науке. В своей знаменитой книге, впервые издающейся на русском языке, Энтони Флю рассказал о долгой жизни в науке и тщательно разобрал каждый этап изменения своего мировоззрения.

Немецкий исследователь Вольфрам Айленбергер (род. 1972), основатель и главный редактор журнала Philosophie Magazin, бросает взгляд на одну из величайших эпох немецко-австрийской мысли — двадцатые годы прошлого века, подробно, словно под микроскопом, рассматривая не только философское творчество, но и жизнь четырех «магов»: Эрнста Кассирера, Мартина Хайдеггера, Вальтера Беньямина и Людвига Витгенштейна, чьи судьбы причудливо переплелись с перипетиями бурного послевоенного десятилетия. Впечатляющая интеллектуально-историческая панорама, вышедшая из-под пера автора, не похожа ни на хрестоматию по истории философии, ни на академическое исследование, ни на беллетризованную биографию, но соединяет в себе лучшие черты всех этих жанров, приглашая читателя совершить экскурс в лабораторию мысли, ставшую местом рождения целого ряда направлений в современной философии.

Парадоксальному, яркому, провокационному русскому и советскому философу Константину Сотонину не повезло быть узнанным и оцененным в XX веке, его книги выходили ничтожными тиражами, его арестовывали и судили, и даже точная дата его смерти неизвестна. И тем интереснее и важнее современному читателю открыть для себя необыкновенно свежо и весело написанные работы Сотонина. Работая в 1920-е гг. в Казани над идеями «философской клиники» и Научной организации труда, знаток античности Константин Сотонин сконструировал непривычный образ «отца всех философов» Сократа, образ смеющегося философа и тонкого психолога, чья актуальность сможет раскрыться только в XXI веке.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В сегодняшнем мире, склонном к саморазрушению на многих уровнях, книга «Философия энтропии» является очень актуальной. Феномен энтропии в ней рассматривается в самых разнообразных значениях, широко интерпретируется в философском, научном, социальном, поэтическом и во многих других смыслах. Автор предлагает обратиться к онтологическим, организационно-техническим, эпистемологическим и прочим негэнтропийным созидательным потенциалам, указывая на их трансцендентный источник. Книга будет полезной как для ученых, так и для студентов.

I. Современный мир можно видеть как мир специалистов. Всё важное в мире делается специалистами; а все неспециалисты заняты на подсобных работах — у этих же самых специалистов. Можно видеть и иначе — как мир владельцев этого мира; это более традиционная точка зрения. Но для понимания мира в аспектах его прогресса владельцев можно оставить за скобками. Как будет показано далее, самые глобальные, самые глубинные потоки мировых тенденций владельцы не направляют. Владельцы их только оседлывают и на них едут. II. Это социально-философское эссе о главном вызове, стоящем перед западной цивилизацией — о потере ее людьми изначальных человеческих качеств и изначальной человеческой целостности, то есть всего того, что позволило эту цивилизацию построить.

Санкт-Петербург - город апостола, город царя, столица империи, колыбель революции... Неколебимо возвысившийся каменный город, но его камни лежат на зыбкой, болотной земле, под которой бездна. Множество теней блуждает по отражённому в вечности Парадизу; без счёта ушедших душ ищут на его камнях свои следы; голоса избранных до сих пор пробиваются и звучат сквозь время. Город, скроенный из фантастических имён и эпох, античных вилл и рассыпающихся трущоб, классической роскоши и постапокалиптических видений.