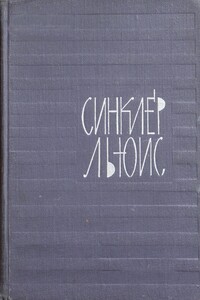«И вновь цветёт акация…» - [4]
Тарелки и бокалы. «Акация цветет»
В межвоенном Львове существовало невероятное количество изданий на польском, иврите и идиш; приблизительно треть газет и журналов систематически освещали культурную жизнь города. Список имен арт-критиков, всерьез занятых именно и прежде всего еврейским искусством, огромен; в нем, если не ошибаюсь, фигурирует всего одно женское имя. Старшая современница Деборы Фогель, Аниэлла Комгут (Aniela Komgutowna) писала о выставках еврейских художников под псевдонимами «Аниэлла Каллас» и «Юлиуш Пьясецкий». Аниэлла родилась в 1868 году в Кракове; прослушала курс лекций в Ягеллонском университете; с 1894 года жила в Гданьске, где сотрудничала с «Газетой Гданьской», а в 1911 переселилась во Львов. Здесь до 1930 года Аниэлла писала статьи в газету «Wiek Nowy»; известны ее публикации о творчестве Артура Марковича и художника круга Деборы Фогель, Эрно Эрба. Как и Дебора Фогель, Аниэлла Комгут погибла во львовском гетто в 1942 году.
Среди польских критиков еврейским искусством в прессе занимались Антоний Холоневский, либерал, поборник идеи становления национальной идентификации в искусстве; искусствоведы Густав Черницкий, Антоний Гавинский, Владислав Козицкий, Генрик Струве и Генрик Вебер. О еврейском искусстве в еврейской, в том числе сионистской, прессе писали Мечислав Стерлинг, Максимилиан Биненшток, Зигмунт Бромберг-Бытковский, художник Леон Вейн и коллекционер Максимилиан Гольдштейн, а также множество других журналистов, публицистов и арт-критиков, считающих еврейское искусство самостоятельным явлением в художественном процессе Галиции.
Прозападные художественные убеждения, очень модные в межвоенной Польше, и аполитичные взгляды, а также блестящее знание иврита, идиш и польского позволяли Деборе Фогель печататься в большинстве изданий, целиком или только отчасти посвященных культуре и искусству.
О некоторых особенностях львовской интеллектуальной среды, в частности, о точке зрения на роль, смысл и предназначение в нем женщин, говорит — не прямо, поскольку это не публицистика, но очень точно, поскольку это блестящая проза, — следующий пассаж:
«Дама с бледно-медными волосами наверно не знает, „зачем вставать“ каждое утро. И липким тестом тоски обнимает наступивший день. А маленькая парикмахерша с улицы Кармелитской с непоколебимой уверенностью абсолютно точно знает, что ей нужно, чтобы обладать жизнью.
И между первой и второй волной возникает отдел банальной философии, и из таких разрозненных отделов составляется большой и тяжелый трактат о жизни.
Можно ли вообще принимать волны волос за жизненную позицию? Волны со всеми нюансами трех первичных цветов?
…Они удерживают мир в сладком и бессмысленном напряжении. Мир людей между тридцатым и сороковым годом жизни».
Блестящие корсеты и волнистые волосы. «Акация цветет»
Социальная тема не пугала Дебору Фогель, но не слишком привлекала ее.
Гуляющие безработные и марширующие солдаты, скучающие мещанки и энергичные парикмахерши занимали ее внимание, поскольку органично вписывались в текст города, отражая оттенки его настроений, включаясь в его меланхоличный неспешный ритм. Неотъемлемые составляющие места и времени, персонажи ее прозы не были персонажами в классическом понимании: в книгах Деборы Фогель совсем нет диалогов, ни один из ее героев не приходит в ее прозу на первой странице, чтобы уйти с последней; воодушевленный неодушевленный мир ее коллажей приходит в движение только в качестве иллюстрации того или иного настроения, зафиксированного во всей полноте, от первого импульса до исчезновения, растворения в другом, следующем настроении, уже непригодном для прозы, или наоборот, еще более интересном, поэтому описанном в следующем фрагменте ее коллажей, — тревожных, нежных, грустных или ясных, написанных так, как пишут, фиксируя прямую речь с ровными, никогда не опускающимися до экспрессивной насыщенности, интонациями.
Впрочем, в публицистике Дебора Фогель называла вещи своими именами, не заостряя, но и никогда не смягчая острых углов, воссоздавая проблему с точки зрения своей среды, которую в известном смысле олицетворяла, — не только своими произведениями, но и образом жизни; способом существования; способом мысли о существовании:
«Собственно, интеллигент переживает так даже вопрос голода и безработицы — прежде всего в плоскости проблематики».
«Несколько замечаний о современной интеллигенции». Львов, 1936.
Марек Влодарский (Генрик Стренг). Иллюстрация к эссе «Трактат о жизни. Часть первая» — книга «Цветочные магазины с азалиями».
Говоря о тревоге, свойственной прозе Деборы Фогель, не стоит объяснять происхождение этой интонации влиянием декаданса, — он давно вышел из моды, за которой писательница, кстати сказать, очень внимательно следила. Мне кажется, Львов, заключенный в оправу двух мировых войн, наполовину состоял из воспоминаний об одной войне, равных предчувствию второй. Поэтому любое переживание, сталкиваясь с внутренней экспрессией периода, давало в итоге ту неповторимую разновидность тоски, свойственной упадку любой культуры, застывшей, будто театральные герои пятого акта, в предчувствии близкого, уже последнего, занавеса.

«В те годы, когда русское новое искусство было гонимо, художники постояли за себя. Лишь немногие трусливо бежали с поля битвы. Остальные – в полном одиночестве, под градом насмешек – предпочли работать и ждать. Мало кто обольщался надеждами, многие предчувствовали, что на долю им выпадет пережить наши тяжелые дни и что лучшего им не дождаться. Тяжело было переживать ту эпоху, но завидна участь художников, потому что их тяжелый труд не пропал даром. В те дни художники имели не только право, но и обязанность утвердить знамя «чистого искусства».
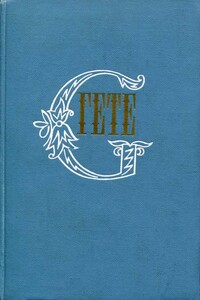
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
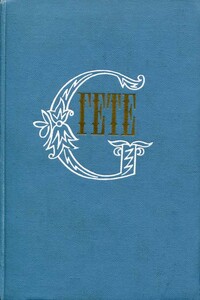
Статья дает объективную характеристику трех пейзажей Рейсдаля, но Гете преследовал этим сочинением не историческую и не академическую цель. Статья направлена против крайностей романтической живописи.
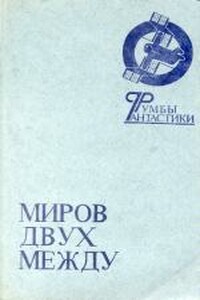
Критический отзыв на научно-фантастическую повесть «Шагни навстречу» молодого волгоградского фантаста Сергея Синякина.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.