Худсовет - [2]
- Не засохнут? - заботливо спросил шеф.
- Внутри земля, система орошения с другой стороны, поэтому незаметна, - объяснил автор.
За многотонными фугасками открывалась панорама осмотра. Металл тихо гудел под ногами идущих и затих; Бэтерлин, слегка побледнев, попросил всех остановиться.
- Я уже говорил об этом, но не все слышали, и потому несколько предварительных замечаний. Все, что вы здесь увидите, организовано в виде лабиринта. Здесь не всегда просто найти выход. Такая форма соответствует общему замыслу: показать сложность, непредсказуемость, извилистость пути, по которому человечество шло к разоружению. Может быть, это и не нравится кому-то, но упрощать, примитизировать историю я не считаю достойным художника. Прошу.
Вряд ли есть нужда подробно описывать все это сооружение. Ракеты веером и ракеты на центрифуге; пол, выложенный из подогнанных друг к другу снарядов и залитый лаком, сквозь который мигали в ритме музыки разноцветные огоньки; неожиданно уставленные в грудь дула орудий и пулеметов - там, где выход считался недействительным; торпедный катер в разрезе с известными пиктограммами на дверях, обозначавшими мужскую и женскую уборные; мозаика, выложенная осколками химических (в том числе - и форфоровых) бомб; надпись из капсюлей: "МИР ПОБЕДИЛ ВОЙНУ"; множество игральных автоматов с боевыми самолетами, авианосцами, танками, запрограммированными так, что ни один желающий не мог выиграть ни одного боя; и наконец - чему я весьма обрадовался довольно приличный буфет в салоне подводной лодки.
Но гораздо интереснее было другое: реакция Финдена. Это главный монументалист города, которого "ели". Он всему удивлялся, восхищенно крутил головой и спрашивал озабоченно, без всякой насмешки: "А вам не кажется, что левая и правая часть здесь не уравновешены? Я не о симметрии говорю - о гармонии" - на что Бэтерлин вначале отвечал охотно и вежливо, но потом начал откровенно злиться. "Что, здесь, мальчиком меня хотят выставить, что ли?" - было написано на его лице. Но замечания Финдена чаще всего мне казались интересными.
Это трудно объяснить. В студенчестве, потом в вольной своей жизни, когда я ни перед кем и ни за что не отвечал, взгляды на искусство были у меня определенными, жесткими, несомненными. Свободно, без предубеждения рассматривая любую вещь - будь то старинное нэцке или полотно Сахатова, - я быстро и уверенно мог сказать, хороша она или не хороша, и почему не хороша. Тот инструмент в душе, при помощи которого легко отличить настоящее от подделки, всегда был исправен. Но как только интерес к искусству стал профессиональным, на мои глаза словно чужие очки надели: я ничего не мог понять. Необходимость пространной аргументации, обилие специальных терминов, зависимость чьих-то судеб от моих слов - все это сбивало с толку. Словно какой-то компас внутри меня был смещен магнитной бурей. И потому я уже не судил сразу и безошибочно: мне нужно было выслушать всех, осмыслить каждое суждение, чтобы потихоньку, осторожно прийти к собственному. И каждый раз со страхом ждал: а вдруг меня первого спросят?! Не знаю! Вроде и ничего. А чего-то не хватает...
Но обсуждение решили провести потом, после осмотра второго комплекса, автором которого был Финден. Человек, конечно, странноватый. Еще в институте мне эту историю подали так: главный взялся выполнить ответственный заказ. На худсовете, где рассматривался проект, Бэтерлин резко раскритиковал его идею. Произошел серьезный раскол. (Тут добавляют, что Бэтерлин давно мечтал стать главным,. но я в это не верю. Он, на мой взгляд, из тех, кому гораздо удобнее быть вторым и находиться в оппозиции - хотя бы потому, что оппозиция в глазах обывателей всегда симпатичней. За десять лет Финден - шестой по счету главный. А Бэтерлин, никогда не быв главным, этак лет тридцать пользуется неизменным почетом. И еще: споры творческие по существу больнее и глубже, чем споры за оклад и должность, ибо тут встает вопрос о правомерности самого существования той или иной творческой единицы). И вот Финден, пользуясь своей властью, делает невообразимый шаг: предлагает Бэтерлину создать этот самый комплекс параллельно своему - и пусть, мол, люди нас рассудят. Как он теперь утрясет смету, неизвестно, ибо одно из двух сооружений предполагается сломать. Но Бэтерлин вызов принял, и вот мы едем смотреть работу Финдена.
Кто мне из них больше нравится? Бэтерлин - светский лев, гладок, остроумен, производит впечатление человека зрелого и властного. Может быть, не очень тонок, но это, наверное, от избытка деловых встреч и знакомств, которые -. по себе знаю - притупляют наши чувства. Финден в общем как-то проигрывает, не то что тугодум, но до наивности серьезен. Возьмется разбирать какую-то вещь - устанешь, пока дослушаешься. Нет в нем той почти обязательной легкой пошлинки, без которой не впишешься в художественную среду. А в эти минуты и ведет себя не так, как следовало бы, разговаривает простецки, не внушительно, ваньку валяет, посмеивается - или смирился с поражением и готовится к уничижительному разгрому?
Все к тому - и вот его произведение.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Бригадир Зардаков после селевых потоков, которые обрушились на его поля с посеянным хлопком, случайно обнаружил пещеру, которая вывела его в параллельный мир. А почему бы и здесь не посеять хлопок? — подумал он тогда…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Вокруг дома доктора Миндена бродит толпа фанатиков и ищет женщину, несущую в себе зловредное семя, чтобы убить ее. А в это время дочь доктора, четырехлетняя Джинни, требует, чтобы ей сделали три тысячи семьсот восемь бутербродов с арахисовым маслом.
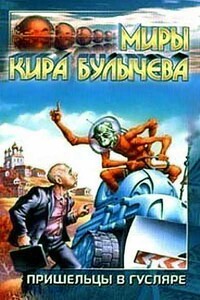
Где-то далеко в космосе умирают маленькие, пушистые крупики, им надо помочь. И вот Корнелий Удалов в дождь и слякоть отправляется…, нет не в космос, а на окраину Великого Гусляра — именно там находится спасение крупиков.
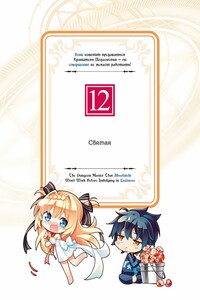
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.