Художественно-выразительные средства экрана - [3]
Когда основная нагрузка (смысловая, а подчас и эмоциональная) приходится на слово, зритель вправе предъявлять претензии. Большое количество телепередач с явным преобладанием звука над изображением создало специфическую аудиторию телеслушателей. Они вяжут кофты, режут салаты, гладят белье, изредка поглядывая на экран, внимательно слушают информацию. Зачастую телеслушатели находятся даже в более выигрышном положении, чем телезрители, так как многие авторы с определенной долей пренебрежения относятся к изображению. Например, в одной из передач тележурналистка на общих планах, показывающих ОМОНовцев в действии, пыталась раскрыть мысль об их добрых сердцах и чистых намерениях. После достаточно жестких кадров последовал текст: "Но вглядимся в их лица...", и зрители, не увидев ни одного лица (оператору не удалось снять ни одного выразительного крупного плана), засомневались в справедливости слов автора, а телеслушатели, напротив, были уверены, что рассказ велся об очень симпатичных и честных парнях.
Нередко мы слышим с экрана мнение восторженного журналиста по поводу красоты окружающей природы. А на экране — два-три невыразительных плана заброшенной местности. Зритель не только не может разделить восхищение автора, но испытывает недоумение, и получается как в старом анекдоте: человек ищет врача "ухо — глаз", так как все время видит одно, а слышит другое.
Пока экран оставался немым, такие несуразицы были исключены. Пластика экрана, его выразительность не могла быть заменена экспрессией речевой интонации. Не было возможности воскликнуть: "Как здесь красиво!" — приходилось искать эквивалент эмоциям в зримых формах.
Вот почему, когда в конце 20-х годов нашего столетия пришел на экран звук, разгорелась острейшая полемика. Сторонники немого экрана опасались (и как пришлось впоследствии убедиться — не без основания), что пластика экрана, его изобразительные возможности будут подменены словом. Однако спор не мог быть решен в их пользу, так как экранное искусство является искусством временным, а категория времени тесно связана со звуком. Протяженность действия во времени обуславливает тот факт, что у зрителя в процессе восприятия участвует не только зрение, но и слух. Немые фильмы демонстрировались под аккомпанемент таперов (музыкантов-пианистов). Тараканьи бега воспринимались под звуки, издаваемые болельщиками. Ритмы бубнов или звучание музыки, возгласы и естественные шумы всегда восполняют недостающий звук любого действия, развивающегося во времени. Полная тишина угнетает, подавляет каждого человека, если только он не наслаждается ею после городского шума. И когда звучат слова: "Почтим память погибших минутой молчания", торжественность момента подчеркивается неестественным, беззвучным течением времени.
Изобразительные искусства — чисто зрительные — вневременные. Живопись, скульптура, графика фиксируют момент, миг жизни. Мгновение принадлежит вечности. Мыслитель в скульптурном решении Родена не может высказать свои самые умные мысли, потому что он не существует во времени, точно так же как невозможно озвучить портрет Ф.М. Шаляпина лучшими его ариями — тогда он должен был бы ожить во времени.
Но если скульптура или портрет становятся героями экранного искусства, когда зритель получает возможность на протяжении определенного времени всмотреться в изображение философа или певца, то есть когда задействован временной фактор, тогда уместно использование и арий из опер, и философских рассуждений.
В искусствах, связанных с категорией времени, к которым относится телевидение, использование звука приобретает глубинный смысл.
Мастерство создателей произведений экранного искусства заключается в том, "чтобы развернув каждую область выразительных средств до максимума, вместе с тем так суметь соркестровать, сбалансировать целое, чтобы ни одна из частных единичных областей не вырывалась бы из этого общего ансамбля, из этого всеобщего композиционного единства" (Эйзенштейн С.М. Собр. соч. в 6 т. М., Искусство, 1964. Т. 3. С. 581).
Изучение экранного языка целесообразно начать с рассмотрения живописных и графических возможностей кадра, его пластической выразительности.
Слово "кадр" в переводе с французского и итальянского языков означает "рама". Само понятие связано с кинопленкой, но и на мониторе, нажав клавишу "пауза", получаем картинку, подобную живописному полотну. Кадр представляет собой "одну фазу существования объекта с определенной точки, в определенном ракурсе и на определенном расстоянии... Кадр — первичная конструктивная, съемочная и монтажная единица" (Головня А. Операторское искусство. М., ВГИК, 1976. С. 29).
Часто кадр сравнивают со словом, точнее же сравнить его с буквой, с той только разницей, что буквы мы берем из готового алфавита, а кадр оригинален. Без четкой проработки каждого кадра-буквы невозможно без ошибок составить слово и грамотные фразы-предложения, из которых может сложиться красивая внятная речь. Когда мы воссоздаем кадр и по аналогии стремимся получить букву "и" или "а", необходимо все наши усилия направить на нужный результат, чтобы при составлении слов, а затем и фраз они не были бы считаны с экрана, к примеру, как "у" или "ю".
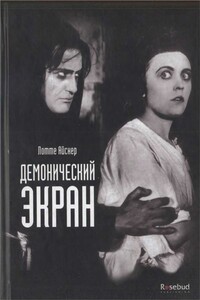
Знаменитая работа, принадлежащая перу самого влиятельного немецкого кинокритика, рассказывает о творческих поисках в немецком кино 20-х годов. Анализируя самый бурный период немецкого киноискусства, автор сочетает глубокое знание материала с философским взглядом на кино как зеркало духовной жизни общества. Исследование Айснер по праву называют «одной из очень немногих классических книг о кино и, быть может, лучшей из тех, что уже написаны».

НОВАЯ КНИГА знаменитого кинокритика и историка кино, сотрудника издательского дома «Коммерсантъ», удостоенного всех возможных и невозможных наград в области журналистики, посвящена культовым фильмам мирового кинематографа. Почти все эти фильмы не имели особого успеха в прокате, однако стали знаковыми, а их почитание зачастую можно сравнить лишь с религиозным культом. «Казанова» Федерико Феллини, «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча, «Дневная красавица» Луиса Бунюэля, величайший фильм Альфреда Хичкока «Головокружение», «Американская ночь» Франсуа Трюффо, «Господин Аркадин» Орсона Уэлсса, великая «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и его «Широко закрытые глаза», «Седьмая печать» Ингмара Бергмана, «Бегущий по лезвию бритвы» Ридли Скотта, «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони – эти и многие другие культовые фильмы читатель заново (а может быть, и впервые) откроет для себя на страницах этой книги.
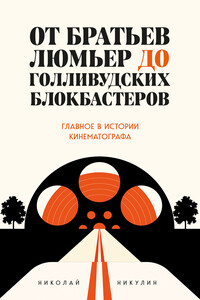
Если отдельно взятый фильм – это снимок души его создателя, то кинематограф 20 века – это безусловно отражение времени. Страницы истории наполнены как трагическими моментами, так и шутливыми. В этой книге собраны остроумные истории и апокрифические случаи, которые сделали кинематограф таким, каким он является в наши дни. И, разумеется, портретная галерея самых ярких режиссеров, в лице которых отразился прогресс и развитие индустрии, ее эстетическое формирование и концептуальное разнообразие. Вы узнаете о том, кто был главным соперником братьев Люмьер в создании первого фильма; почему именно Сергей Эйзенштейн оказал такое влияние на кинематограф; какое влияние на кинематографистов оказала живопись и другие интересные факты и истории, которые обязан знать каждый, кто считает себя знатоком кино.
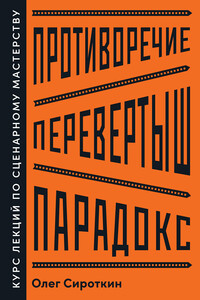
Секрет зрительского успеха кинокартины кроется в трех словах: противоречие, перевертыш, парадокс. «Положите в основу сюжета парадокс. Противоречие пусть станет неотъемлемой чертой характера персонажа. Перевертыш – одним из способов художественно решить сцену…» – говорит сценарист и преподаватель теории драматургии Олег Сироткин. В своей книге он приводит наглядные примеры, как реализуются эти приемы в кино, и помогает авторам в работе над сценарием – от идеи до первого драфта. Через разбор культового фильма «Матрица» Олег Сироткин дает понятную и простую схему сценарной структуры фильма. Он также рассказывает о специфике работы отечественных сценаристов и анализирует особенности сценариев для кинокартин различных жанров и форматов: от полнометражных фильмов до ультракоротких веб-сериалов.
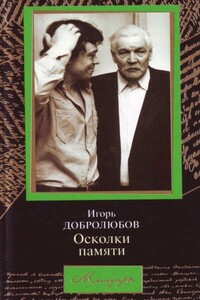
Добролюбов Игорь Михайлович - народный артист БССР, профессор, кинорежиссер, самыми известными фильмами которого являются "Иван Макарович", "Улица без конца", "Братушка", "Расписание на послезавтра", "Белые росы". Талантливый человек талантлив во всем. Режиссерский дар И.М. Добролюбова трансформируется в этой книге в яркий, искрометный дар рассказчика. Книга его мемуаров отличается от традиционных произведений этого жанра. Она написана настолько живо, что читается на одном дыхании. Курьезные случаи на съемках фильмов надолго останутся в памяти читателя.
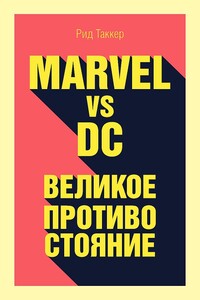
Книга о великом противостоянии двух гигантов индустрии комиксов и кино — Marvel и DC. Автор расскажет истории создания двух таких похожих на первый взгляд, но совершенно разных корпораций. Одна существует уже почти сто лет, а вторая — всего шестьдесят. Одна подарила нам Супермена, Бэтмена, Чудо-женщину и Флэша, а другая — Человека-Паука, Капитана Америку и Железного Человека. Одна уверенно развивает киновселенную на больших экранах, вторая только встала на этот путь, но как успешно идет по нему. Помимо увлекательного рассказа в тексте много комментариев и историй от знаменитых людей — Уилла Смита, Зака Снайдера, Дуэйна «Скалы» Джонсона, Себастиана Стэна и, конечно, Стэна Ли. История многолетнего соперничества, взлеты и падения конкурентов, громкие ссоры и тихие информационные войны, создание величайших героев и закулисье вселенной — все это и многое другое на страницах этой книги! • Кто победит: Бэтмен или Капитан Америка? • У кого воровали персонажей? • Зачем Стэн Ли читал все письма фанатов? • Как DC украли лучшего художника у Marvel?