Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь - [71]
Рассмотрим теперь фигуру фюрера в Третьем рейхе. Он репрезентирует единство и родовое равенство немецкого народа[282]. Его власть — это не власть деспота или диктатора, наложенная на волю и тело подданных извне[283]; скорее его власть неограниченна в той мере, в какой он отождествляет себя с самой биополитической жизнью немецкого народа. В силу этой идентичности каждое его слово немедленно становится законом (Führerworte haben Gesetzkraft), как не уставал повторять Эйхман на процессе по его делу в Иерусалиме, он непосредственно отождествляет себя со своим приказом (zu seinem Befehl sich bekennenden[284]). Он, конечно, может жить частной жизнью, однако то, что делает его фюрером, — это как раз то обстоятельство, что само его существование уже обладает политическим характером. Если пост рейхсканцлера — это общественная dignitas, которую он получает с помощью процедур, предусмотренных Веймарской конституцией, то фюрер — это уже не должность в смысле традиционного публичного права, но нечто, что берет начало непосредственно в самой его личности, именно здесь совпадая с жизнью немецкого народа. Он и есть политическая форма этой жизни: поэтому его слова — закон, поэтому он требует от немецкого народа того, чем тот в действительности уже является.
Традиционное различение между политическим и физическим телом монарха (генеалогию которого терпеливо реконструировал Канторович) отныне исчезает, и два тела резко сжимаются воедино. Фюрер обладает, так сказать, единым телом, не публичным и не частным, чья жизнь сама по себе является высшей степенью политического. Таким образом, он находится в точке пересечения zoé и bios, биологического и политического тела. В его личности они непрерывно переходят одно в другое.
Представим себе теперь жителя лагеря, того, чье существование уже невозможно вообразить. Примо Леви описал того, кто на лагерном жаргоне именовался «мусульманином», существом, в котором унижение, ужас и страх полностью отрезали сознание и личность, вплоть до самой абсолютной апатии (отсюда и странное название). Он не только был выключен, подобно своим товарищам, из политического и социального контекста, к которому он когда–то принадлежал; он не только, подобно жизни еврея, недостойной самой жизни, был приговорен в более или менее близком будущем к смерти; кроме того, он вообще не принадлежал больше к миру людей, даже к находящемуся под угрозой и временному миру лагерных обитателей, с самого начала о нем забывших. Немой и абсолютно одинокий, он перешел в другой мир, где нет ни памяти, ни сострадания. К нему буквально применимы слова Гёльдерлина: «на краю боли остаются лишь время и пространство».
Что такое жизнь «мусульманина»? Можно ли сказать, что это чистое zoé? Но в нем нет больше ничего «природного» или «общественного», ничего инстинктивного или животного. Вместе с разумом перечеркнуты и его инстинкты. Антельм рассказывает, что житель лагеря был не в состоянии отличить муки холода от жестокости СС. Если мы буквально применим к нему это утверждение («холод, СС»), то сможем сказать, что «мусульманин» обретается в абсолютном неразличении между реальностью и правом, жизнью и нормой, природой и политикой. Именно поэтому надсмотрщик порой внезапно оказывается бессилен, как если бы он на миг засомневался, не является ли вдруг поведение «мусульманина», не отличающего приказ от холода, неслыханной формой сопротивления. Закон, претендующий на то, чтобы целиком стать самой жизнью, сталкивается здесь с жизнью, которая целиком стала нормой, и именно эта неразличимость угрожает lex animata лагеря.
Пол Рабинов передает случай биолога Уилсона, который, обнаружив, что он заболел лейкемией, решает полностью превратить свое тело и свою жизнь в исследовательскую и экспериментальную лабораторию. Поскольку он должен отвечать только за себя, то этические и правовые барьеры исчезают, а научное исследование может свободно и без остатка совпасть с индивидуальной биографией. Его тело не принадлежит ему самому, ибо оно было преобразовано в лабораторию; но оно не принадлежит и обществу, так как оно способно нарушить пределы, которые нравственность и закон налагают на эксперимент, лишь будучи чьим–то индивидуальным телом. Experimental life, экспериментальная жизнь, — этим термином Рабинов определяет жизнь Уилсона. Нетрудно заметить, что experimental life — это bios, но в совершенно особом смысле, ибо он настолько сконцентрирован на собственном zoé, что становится неотличим от нее.
Войдем в реанимационный бокс, где лежит тело Карен Куинлан, «новомертвое» тело, бывшее в «запредельной коме» и ожидающее извлечения органов. Биологическая жизнь, которую поддерживают автоматы, проветривая легкие, качая кровь в артерии и регулируя температуру тела, полностью отделена от формы жизни, носившей имя Карен Куинлан: речь идет (или по крайней мере кажется, что идет) о чистой zoé. Когда к середине XVII века в истории медицинских наук возникает физиология, она связывается с анатомией, господствовавшей во времена появления на свет и становления современной медицины; если анатомия (основывавшаяся на вскрытии трупа) — это описание безжизненных органов, то физиология — это «анатомия в движении», объяснение их функций в живом теле. Тело Карен Куинлан — это в самом деле лишь анатомия в движении, совокупность функций, чьей целью больше не является жизнь организма. Ее жизнь поддерживается только вследствие техник реанимации и на основе правового решения; это уже не жизнь, а смерть в движении. Однако поскольку, как мы видели, жизнь и смерть теперь это лишь биополитические понятия, то тело Карен Куинлан, колеблющееся между жизнью и смертью в зависимости от прогресса медицины и принятия разных правовых решений, — это правовое бытие не в меньшей степени, чем бытие биологическое. Право, претендующее на решение о жизни, воплощается в жизнь, которая совпадает со смертью.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сборник эссе итальянского философа, впервые вышедший в Италии в 2017 году, составлен из 5 текстов: – «Археология произведения искусства» (пер. Н. Охотина), – «Что такое акт творения?» (пер. Э. Саттарова), – «Неприсваиваемое» (пер. М. Лепиловой), – «Что такое повелевать?» (пер. Б. Скуратова), – «Капитализм как религия» (пер. Н. Охотина). В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
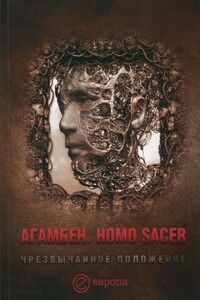
Чрезвычайное положение, или приостановка действия правового порядка, которое мы привыкли считать временной мерой, повсюду в мире становится парадигмой обычного управления. Книга Агамбена — продолжение его ставшей классической «Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь» — это попытка проанализировать причины и смысл эволюции чрезвычайного положения, от Гитлера до Гуантанамо. Двигаясь по «нейтральной полосе» между правом и политикой, Агамбен шаг за шагом разрушает апологии чрезвычайного положения, высвечивая скрытую связь насилия и права.
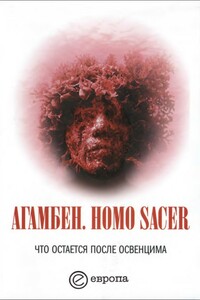
Книга представляет собой третью, заключительную часть трилогии «Homo sacer». Вслед за рассмотрением понятий Суверенной власти и Чрезвычайного положения, изложенными в первых двух книгах, третья книга посвящена тому, что касается этического и политического значения уничтожения. Джорджо Агамбен (р. 1942) — выдающийся итальянский философ, автор трудов по политической и моральной философии, профессор Венецианского университета IUAV, Европейской школы постдипломного образования, Международного философского колледжа в Париже и университета Масераты (Италия), а также приглашенный профессор в ряде американских университетов.
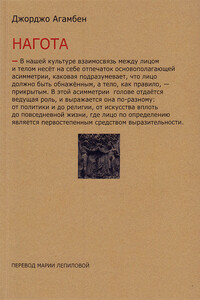
«…В нашей культуре взаимосвязь между лицом и телом несет на себе отпечаток основополагающей асимметрии, каковая подразумевает, что лицо должно быть обнажённым, а тело, как правило, прикрытым. В этой асимметрии голове отдаётся ведущая роль, и выражается она по-разному: от политики и до религии, от искусства вплоть до повседневной жизни, где лицо по определению является первостепенным средством выразительности…» В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Книга социально-политических статей и заметок современного итальянского философа, посвященная памяти Ги Дебора. Главный предмет авторского внимания – превращение мира в некое наднациональное полицейское государство, где нарушаются важнейшие нормы внутреннего и международного права.

Макс Нордау"Вырождение. Современные французы."Имя Макса Нордау (1849—1923) было популярно на Западе и в России в конце прошлого столетия. В главном своем сочинении «Вырождение» он, врач но образованию, ученик Ч. Ломброзо, предпринял оригинальную попытку интерпретации «заката Европы». Нордау возложил ответственность за эпоху декаданса на кумиров своего времени — Ф. Ницше, Л. Толстого, П. Верлена, О. Уайльда, прерафаэлитов и других, давая их творчеству парадоксальную характеристику. И, хотя его концепция подверглась жесткой критике, в каких-то моментах его видение цивилизации оказалось довольно точным.В книгу включены также очерки «Современные французы», где читатель познакомится с галереей литературных портретов, в частности Бальзака, Мишле, Мопассана и других писателей.Эти произведения издаются на русском языке впервые после почти столетнего перерыва.

В книге представлено исследование формирования идеи понятия у Гегеля, его способа мышления, а также идеи "несчастного сознания". Философия Гегеля не может быть сведена к нескольким логическим формулам. Или, скорее, эти формулы скрывают нечто такое, что с самого начала не является чисто логическим. Диалектика, прежде чем быть методом, представляет собой опыт, на основе которого Гегель переходит от одной идеи к другой. Негативность — это само движение разума, посредством которого он всегда выходит за пределы того, чем является.

В Тибетской книге мертвых описана типичная посмертная участь неподготовленного человека, каких среди нас – большинство. Ее цель – помочь нам, объяснить, каким именно образом наши поступки и психические состояния влияют на наше посмертье. Но ценность Тибетской книги мертвых заключается не только в подготовке к смерти. Нет никакой необходимости умирать, чтобы воспользоваться ее советами. Они настолько психологичны и применимы в нашей теперешней жизни, что ими можно и нужно руководствоваться прямо сейчас, не дожидаясь последнего часа.

На основе анализа уникальных средневековых источников известный российский востоковед Александр Игнатенко прослеживает влияние категории Зеркало на становление исламской спекулятивной мысли – философии, теологии, теоретического мистицизма, этики. Эта категория, начавшая формироваться в Коране и хадисах (исламском Предании) и находившаяся в постоянной динамике, стала системообразующей для ислама – определявшей не только то или иное решение конкретных философских и теологических проблем, но и общее направление и конечные результаты эволюции спекулятивной мысли в культуре, в которой действовало табу на изображение живых одухотворенных существ.
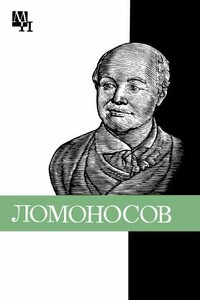
Книга посвящена жизни и творчеству М. В. Ломоносова (1711—1765), выдающегося русского ученого, естествоиспытателя, основоположника физической химии, философа, историка, поэта. Основное внимание автор уделяет философским взглядам ученого, его материалистической «корпускулярной философии».Для широкого круга читателей.

В монографии на материале оригинальных текстов исследуется онтологическая семантика поэтического слова французского поэта-символиста Артюра Рембо (1854–1891). Философский анализ произведений А. Рембо осуществляется на основе подстрочных переводов, фиксирующих лексико-грамматическое ядро оригинала.Работа представляет теоретический интерес для философов, филологов, искусствоведов. Может быть использована как материал спецкурса и спецпрактикума для студентов.