Химера - [28]
Еще помню свое отчаяние. Понимаешь, после их отъезда пала тишина. Как кариатида, держащая на плечах балкон, я вдруг ощутил жуткий каменный груз тишины. И выбежал из арутюновской квартиры.
Где меня носило? И сколько? Какие-то обрывки в памяти. Мы с Пашкой Соловьевым, бывшим мотористом нашего катера, сидим в пивной где-то на Выборгской стороне, и Пашка подливает мне водку в кружку с пивом и обкладывает матом за то, что я связался с евреями, а я пытаюсь Пашке объяснить, какой он стал сволочью, а ведь был на Балтике приличным парнем, но язык не повинуется мне… Потом, кажется, был вытрезвитель… Стыдно, стыдно… Но что было, то было, ты уж прости, что я все это вываливаю… Потом в Зеленогорске… в бывших Териоках… там живет Скляренко, был такой у нас в дивизионе химик, ведал дымаппаратурой, мы с ним ругались когда-то, уж больно был занудлив… Теперь у него дом в Териоках, ну финский, дощатый, и огород… В огороде мы и пили, и там же, в сторожке, помню, я спал… Хороший парень Скляренко, надежный… только все хотел мне доказать, что человеку нельзя давать много воли, иначе человек вред сделает и себе, и окружающим. А я кричал: «Да почему непременно вред?! Подневольный человек больше вреда причинит, чем свободный…» А-а, чушь, пьяные разговоры… прости…
Вот что помню хорошо: спал я после очередной выпивки в скляренковской сторожке, среди зреющих огурцов, и вдруг проснулся как будто от того, что меня позвали. Голос я узнал сразу: это был тихий голос Веры Никандровны. Сорвал я несколько ромашек и кинулся бежать на станцию электрички…
Штейнберг отчитал меня за беспутство. Он бывает… бывал нестерпимо сварлив, насмешлив… я готов был вспылить… Хорошо, что Вера Никандровна вмешалась. Вот человек, умеющий успокоить, утихомирить… Ну ладно…
Оказалось, что Леонид Михайлович тоже бросил институт. Он — после моего ухода — пожелал работать по индивидуальному плану, это не прошло, Рогачев хотел пристегнуть к нему двух сотрудников. И Штейнберг взбрыкнул. Он списался со своим любимым Приэльбрусьем, его там хорошо знали, пообещали работу и квартиру — и Леонид Михайлович уволился из института. «Все, — сказал он мне в тот вечер, накануне отлета на Кавказ, — на сей раз окончательно. Иду в горные инструкторы, в спасатели. В науку больше не вернусь, сыт по горло». Пока Вера Никандровна готовила ужин, мы с ним условились о переписке, о системе самонаблюдений и анализов. Ведь то, что мы сделали, принадлежало уже не только нам. Ты понимаешь?
Утром следующего дня Штейнберги улетели на Кавказ. Леонид Михайлович с того времени, то есть с 60-го года, ни разу не приезжал в Ленинград. Вера Никандровна наезжала. Потом Галя приехала учиться. А он — ни единого разу.
Что было потом со мной? В сентябре я начал преподавать биологию в школе. В той самой, где когда-то замещал Машу. И где продолжала работать Люба Куликовская.
У Любы был комплекс вины передо мной: ведь она, так сказать, «прикрывала» частые отлучки Маши, когда та ездила к Рогачеву. Как же, подруги детства… Теперь, когда мы с Машей расстались, Люба решительно стала на мою сторону. Она сокрушалась, что потворствовала Маше, помогая ей обманывать… даже попросила у меня прощения. «Да что ты, — сказал я Любе, — какое прощение, ты не виновата. Ты поступила как настоящая подруга». — «Нет, — покачала она головой, — нет, нет… я не должна была так… Просто ты, Юра, добрый…» Не знаю. Не такой уж я добрячок. А вот она, Люба, и верно была очень добрая, отзывчивая. Мы привязались друг к другу — два одиноких человека. Люба помогала мне как-то управляться с бытом. А года полтора спустя мы поженились. Я переехал к ней в Купчино, на Будапештскую улицу.
Летом того же, 62-го, года, в августе, Штейнберги позвали нас погостить к себе в Гаджинку. И мы с Любой впервые в жизни полетели на Кавказ.
В густой зелени садов — черепичные, железные, обитые жестью крыши Гаджинки. Ранним утром по главной улице, по Советской, едет на велосипеде Круглов. За ним увязывается собака, с лаем выскочившая откуда-то из-под забора. А он знай себе катит, загорелый, в шортах и распахнутой на груди тенниске, в соломенной шляпе. Сворачивает с главной улицы на боковую, немощеную. У калитки одного из домов слезает с седла, входит во двор, ведя велосипед «под уздцы».
— Эй, люди! — взывает Круглов, приближаясь к веранде. — Просыпайтесь! Хватит спать.
Вера Никандровна выглядывает из окна кухни:
— Никто не спит. Не кричи, пожалуйста.
На веранду выходит Люба Куликовская в цветастом сарафане.
— Юрик, — говорит она, поправляя очки, — пока ты ездил на бахчу, мы с Верой соорудили пирог. Ну, что ты привез?
— Понятно, понятно: раз Штейнберг приезжает, подавай ему яблочный пирог. — Круглов отвязывает от велосипедного багажника туго набитые сумки. — Вот, посмотри.
— Какая тыква! Какие арбузы! — Люба восторженно всплескивает руками. — Какая роскошь!
— А виноград? — Круглов поднимает крупную гроздь. — Хоть сейчас пиши натюрморт в стиле этого… как его… ну, все равно.
Люба принимается разгружать сумки, а Круглов идет на хозяйскую половину двора. Там, в саду, среди груш и яблонь, хлопочет у дымящего очага пожилая женщина в черном, в низко повязанном над бровями платке.
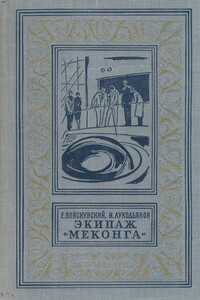
С первых страниц романа на читателя обрушивается лавина загадочных происшествий, странных находок и удивительных приключений, скрученных авторами в туго затянутый узел. По воле судьбы к сотрудникам спецлаборатории попадает таинственный индийский кинжал, клинок которого беспрепятственно проникает сквозь любой материал, не причиняя вреда ни живому, ни мертвому. Откуда взялось удивительное оружие, против какой неведомой опасности сковано, и как удалось неведомому умельцу достичь столь удивительных свойств? Фантастические гипотезы, морские приключения, детективные истории, тайны древней Индии и борьба с темными силами составляют сюжет этой книги.

Сага о жизни нескольких ленинградских семей на протяжении ХХ века: от времени Кронштадского мятежа до перестройки и далее.
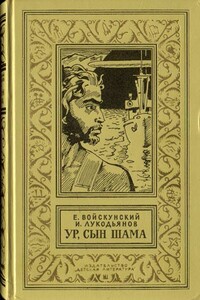
Фантастический роман о необычной судьбе землянина, родившегося на космическом корабле, воспитывавшегося на другой планете и вернувшегося на Землю в наши дни. С первых страниц романа на читателя обрушивается лавина загадочных происшествий, странных находок и удивительных приключений, скрученных авторами в туго затянутый узел.Для среднего и старшего возраста. Рисунки А. Иткина.
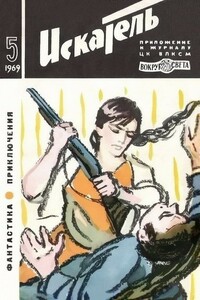
На 1-й стр. обложки — рисунок Г. ФИЛИППОВСКОГО к повести Льва Константинова «Схватка».На 2-й стр. обложки — рисунок Ю. МАКАРОВА к научно-фантастическому роману Е. Войскунского, И. Лукодьянова «Плеск звездных морей».На 3-й стр. обложки — рисунок В. КОЛТУНОВА к рассказу Даниэля де Паола «Услуга».

Повесть продолжает сюжетную линию, начатую в рассказе "Формула невозможного.Через много лет Новиков и Резницкий возвращаются на планету Смилу, чтобы проверить как живут аборигены, оставшиеся без опеки Центра... .

Научно-фантастический роман о людях XXI века, о сложных судьбах исследователей новой формы жизни, питаемой космическим излучением, о проблемах эволюции биологической жизни на Земле, о скрытых возможностях мозга человека.

Значительная часть современного американского юмора берет свое начало в еврейской культуре. Еврейский юмор, в свою очередь, оказался превосходным зеркалом общества благодаря неповторимому сочетанию языка, стиля, карикатурности и глубокой отчужденности.Вот вам милая еврейская супружеская пара, и у них есть дочь — дочь, которая вышла замуж за марсианина. Трудно найти большего гоя, чем он, не так ли?Или все-таки не так?Дж. Данн, составитель сборника Дибук с Мазлтов-IV. Американская еврейская фантастика.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Потомки атлантов живут среди людей. Они владеют мощным биологическим оружием и секретами бессмертия. Но один из них ради спасения любимой нарушил свой долг перед древней Коллегией. Теперь за ним охотятся не только его соплеменники, но и спецслужбы сильнейших держав мира. Передовые военные технологии — против биологического оружия древности. Тысячелетняя мудрость атлантов — против отлично обученных профессионалов незримой войны. Победитель получит власть над миром и личное бессмертие. Волей случая в эту незримую войну оказываются втянутыми двое подростков: брат и сестра из российской глубинки.

В очередной том собрания сочинений Андрэ Нортон включены совершенно не типичные для творчества писательницы романы. Но приключения молодых героев, разворачивающиеся в вымышленной стране и на придуманном острове, не менее увлекательны, чем события большинства ее фантастических произведений.

Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.

Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.

Роман «Время обнимать» – увлекательная семейная сага, в которой есть все, что так нравится читателю: сложные судьбы, страсти, разлуки, измены, трагическая слепота родных людей и их внезапные прозрения… Но не только! Это еще и философская драма о том, какова цена жизни и смерти, как настигает и убивает прошлое, недаром в названии – слова из Книги Екклесиаста. Это повествование – гимн семье: объятиям, сантиментам, милым пустякам жизни и преданной взаимной любви, ее единственной нерушимой основе. С мягкой иронией автор рассказывает о нескольких поколениях питерской интеллигенции, их трогательной заботе о «своем круге» и непременном культурном образовании детей, любви к литературе и музыке и неприятии хамства.

Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)