Ханство Батырбека - [3]
В лучах луны искрится роса на траве… Одинокими точками горят вдали костры на курганах. Бекмурза несется все быстрее и быстрее… И ровно в полночь, когда луна была совсем над головою, в шумных криках от костра он улавливает:
— Догоняй!.. Близко, близко Нурыхан!..
Но верблюд без понуканий сам все наддает, все прибавляет ходу…
Еще курган, и крики, встречающие Нурыхана, сливаются с криками при встрече Бекмурзы… Он уже настигает своего соперника, и теперь они чувствуют друг друга… Две белые движущиеся точки одна за другою несутся по сонной равнине…
Бегут белые всадники под белым светом луны, по белым волнам сверкающих росой ковылей…
Все ближе, все ближе друг к другу, и верблюд будто теперь только понял, в чем дело… Крикнул он длительно и переливно и еще прибавил ходу. Затрепетал, заржал белый конь Нурыхана и тоже усилил бег, грызя удила и в такт своему бегу позванивая уздою… Похудел он, ослабли подпруги, и слышно, как движется седло по спине…
Плотно припал Бекмурза грудью к переднему горбу верблюда и зорко горящими глазами впился в противника. Он стиснул зубы, прикусив тонкий, черный ус, и сердце его переполнилось неукротимой злобой к Нурыхану…
«Зачем, старик, становишься на пути молодого?.. Зачем бьешься из последних сил?.. Видно, крепко уцепилась за сердце твое молодая Алтынса?.. Видно, стоит она того, чтобы отдать за нее все, что осталось в жизни твоей лучшего!..»
И во второй раз взвизгнул Бекмурза от прилива страсти к Алтынсе. Как эхо, отозвался надорванный крик Нурыхана, почуявшего, что последняя радость от него ускользает…
Долго несутся одна за другой две белые точки: одна маленькая — впереди, другая большая — позади… Вот ближе, ближе одна к другой, и у самого кургана, при красном свете костра, при неистовом вопле сторожевых киргизов, они сливаются в одну и уносятся общим белым пятном в туманную даль.
И бегут, бегут… Бегут к живому призу-искушенью, отравившему кровь ядом любви и опьянившему рассудок…
Бегут уже оба рядом… Бегут и молчат, охваченные смертельной враждою друг к другу…
Но вот шея верблюда вытянулась, он опять крикнул и обошел белого коня Нурыхана…
Впереди пылали костры на последних курганах и, встречавшие Бекмурзу киргизы, кричали все восторженнее.
Нурыхан, пригнувшись к гриве, все более отставал, и видно было, как белый конь его сбивался, теряя быстроту и ровность бега.
Потускнел месяц, склонившись к западу, а впереди навстречу бегущему Бекмурзе разгоралась утренняя заря… Краснела, как щеки стыдливой Алтынсы, трепетно и пугливо ждущей теперь конца рокового состязания.
И вот вдали, на ровном горизонте, на румянце зари нарисовались и аулы…
Бежит белый верблюд и, почуяв жилье, устало и протяжно кричит… А навстречу с бурными криками несутся сотни всадников и, окружив Бекмурзу, поворачивают с ним к аулам…
Бедная, изнемогающая, поддерживаемая подругами, стоит у своей юрты Алтынсу и слабо, но нежно улыбается Бекмурзе… А он не может сойти с верблюда: отекло, окоченело от усталости и напряжения все его тело.
Его снимают и ведут под руки к невесте… Впервые и навсегда он берет ее теплые руки и плачет, как маленький…
А верблюда, который уже не мог стоять на ногах, подхватывают под живот арканами, ставят между двух свежих верблюдов и тихо ведут вокруг аула, чтобы не дать остыть его кипящей крови…
Аульный мулла торжественно подносит посеребренный полумесяц из дерева и увенчивает им взмыленную голову белого верблюда, победившего зло и постоявшего за молодость…
Пал белый конь Нурыхана, не добежав всего несколько шагов до аула… И старый Нурыхан, вдруг одряхлевший и смиренный, заплакал на свежем трупе своего любимого скакуна…
Так кончился небывалый спор Бекмурзы с Нурыханом… Так завершился бег, о котором знала вся степь, о котором из века в век будут петь, как о сказке…
Это был бег, увенчавший, украсивший новым именем знатный род: первенцем от Алтынсы родился:
— Батырбек!..
А это тоже означает: князь-богатырь!..
Батырбек длинной, высокой нотой закончил песню и умолк, вспомнив действительность, далекую яркому и вольному прошлому.
Он подъезжал к своему аулу, плотно, серым пятном припавшему к небольшой сопке, круглой, как опрокинутый казан, и голый, как бритая голова киргиза.
II
Но аул Батырбека, состоявший только из пяти юрт, все еще пребывал на летнем стойбище.
Все пять юрт стояли полукругом, будто шли гуськом по кривой дорожке, да так, остановившись, и залетовали. Три из них были старые, темно-серые, дырявые и прокопченные дымом, одна пегая с новыми заплатами из войлока и одна совсем белая, из хорошей кошмы, с красными узорами и цветными арканами. Обе юрты принадлежали Батырбеку, а остальные — его сородичам: дяде — старику Карабаю с семьей, сродному брату — бедному джигиту Сарсеке и дальнему родственнику по первой жене, Байгобылу, могучему, черному и одноглазому киргизу.

Роман сибиряка Георгия Дмитриевича Гребенщикова (1882–1964) «Былина о Микуле Буяновиче» стоит особняком в творчестве писателя. Он был написан в эмиграции в первой половине 1920-х годов и сразу же покорил своей глубиной наших соотечественников за рубежом. В огне революции, в страданиях гибнущей нации засияла русская христианская душа.К Гребенщикову пришла литературная слава именно благодаря его «Былине». Этот роман был переведен практически на все европейские языки, а имя писателя сразу попало в крупные энциклопедии, издающиеся на Западе.
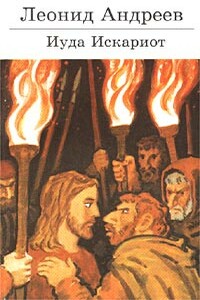
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.