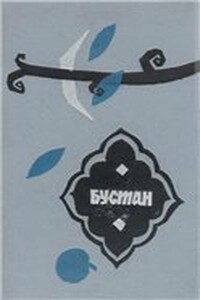Гулистан - [5]
Правитель Фарса Атабек Абубекр ибн Саад Занги (1223—1258) пригласил Саади занять место среди его придворных поэтов. Саади высоко ценил Атабека Абубекра, который спас Фарс и его жителей от монгольского погрома, выплатив монголам большую сумму. Фарс был, пожалуй, единственной областью Ирана, которая уцелела от варварского набега монголов.
Однако, несмотря на это, Саади вежливо отказался от предложения почитаемого им Атабека. Подлинная причина отказа Саади от придворной службы становится ясной не из того, что он говорит в своем предисловии к «Гулистану» по поводу этого, а из его других многочисленных высказываний на этот счет. «Есть свой хлеб и спокойно сидеть лучше, чем золотой пояс службы надеть!»
(Перевод А. Старостина.)
Отказ вступить в ряды придворных поэтов навлек на Саади немилость двора. На страницах «Гулистана» и других произведений поэт постоянно жалуется на своих врагов и завистников, которые причиняли ему немало беспокойства.
Саади остался до конца жизни верен себе и продолжал говорить горькую правду, обличать пороки общества, в котором он жил.
(Перевод Н. Липскерова.)
В одном из «посланий» «Куллията» Саади, записанном кем-то с его слов («Встреча Шейха с Абака-ханом»), очень ярко раскрывается в этом отношении облик поэта:
«Шейх Саади, да помилует и да простит его аллах, рассказывал:
«Когда я, возвращаясь из паломничества к Каабе, прибыл в резиденцию шаха Тавриз, я отыскал там
ученых, улемов и праведных людей города, удостоился встречи с этими досточтимыми людьми, общение с которыми для меня было священным долгом. Я хотел повидаться с великим Хаджой Сахибдиваном Алааддином и Хаджой Сахибдиваном Шамсаддином, ибо я находился с ними в очень близких отношениях. Однажды я отправился к ним на поклон и вдруг на дороге увидел, что они едут на конях вместе с государем лика земли Абака-ханом. Увидев их с падишахом, я хотел было удалиться в какой-нибудь уголок, чтобы они не увидели меня, ибо при таких обстоятельствах было извинительно избегать встречи с ними.
В то время, когда я намеревался уйти, я заметил, что они оба сошли с коней и направились ко мне. Я подошел к ним, и они, осыпав меня приветствиями и поклонами, стали целовать мне руки и лицо. Выразив свою радость по поводу прибытия, они сказали:
— Как жаль, что мы до сих пор не знали о твоем прибытии!
Заметив все происходившее между нами, султан воскликнул:
— Уже несколько лет, как этот Шамсаддин и Алааддин находятся со мной и знают, что падишах лика земли — это я, но никогда эти братья не оказывали мне такого почета, какой они оказали сейчас этому человеку.
Тогда братья вернулись и сели на коней. Султан, обращаясь к Шамсаддину, спросил:
— Кто этот человек, которому вы оказали такое внимание и с которым обошлись так учтиво?
Он ответил:
— О владыка, он наш отец.
Султан воскликнул:
— Ведь я много раз спрашивал вас о вашем отце, но вы говорили, что отец ваш умер, а сейчас заявляете, что этот человек — ваш отец?
Братья ответили:
— О владыка, он наш духовный отец, наставник. Вероятно, до благословенного слуха падишаха дошли имя и песни знаменитого шейха Саади, речи которого известны всему миру.
Абака-хан повелел:
— Приведите его ко мне!
Братья ответили:
— Слушаемся и повинуемся!
Спустя несколько дней Шамсаддин и Алааддин начали всячески уговаривать шейха, чтобы он пошел к Абака-хану, но он не соглашался и только говорил:
— Избавьте меня от этого и извинитесь как-нибудь перед ним.
Братья начали упрашивать его:
— Пусть шейх хотя бы ради нас пожалует к падишаху, а потом воля его.
Шейх далее рассказывал:
— Ради них я отправился и посетил падишаха. Когда я собирался уходить, падишах попросил меня, чтобы я дал ему какой-нибудь совет. Тогда я сказал:
— Из этого мира в загробную жизнь ничего нельзя унести с собой, кроме вознаграждения за добрые дела или же наказания за свои грехи. Сейчас ты волен в выборе.
Абака-хан сказал:
— Вложи эту мысль в стихи.
Тогда шейх сразу же сочинил кыту о справедливости и правосудии:
(Перевод А. Старостина )
Абака-хан несколько раз переспросил:
— Кто я, по-твоему, пастырь народа или нет?
Каждый раз шейх отвечал ему:
— Если ты пастырь своих подданных, то к тебе относится первый бейт, если нет, — то второй.
Справедливость требует признать, что в наше время шейхи и ученые века не могут высказать подобные наставления даже лавочникам или мясникам!»
* * *
Через год с лишним после окончания «Бустана», то есть в 1258 году, Саади написал свое второе крупное произведение — «Гулистан». Во введении к книге поэт рассказывает об обстоятельствах ее написания.
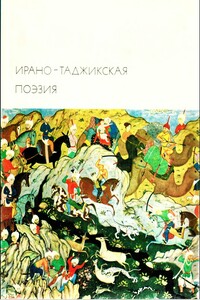
В сборник вошли произведения Рудаки, Носира Хисроу, Омара Хайяма, Руми, Саади, Хафиза и Джами. В настоящем томе представлены лучшие образцы поэзии на языке фарси классического периода (X–XV вв.), завоевавшей мировоепризнание благодаря названным именам, а также — творчеству их предшественников, современников и последователей.Вступительная статья, составление и примечания И.Брагинского.Перевод В.Державина, А.Кочеткова, Ю.Нейман, Р.Морана, Т.Стрешневой, К.Арсеньевой, И.Сельвинского, Е.Дунаевского, С.Липкина, Г.Плисецкого, В.Левика, О.Румера и др.
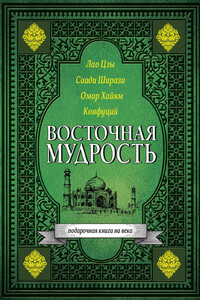
Притча пробуждает светлые и благородные чувства, позволяет расслабиться и быть в гармонии с собой. Наша книга хранит восточные притчи Омара Хайяма, Конфуция, Лао-Цзы, Саади Ширази. Накопленная мудрость великих философов и гениев, попадает прямо в сердце. В непростых ситуациях помогает человеку принять правильное решение и с уверенностью двигаться вперед.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
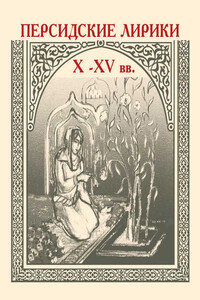
Книга повторяет издание 1916 года, где тексты персидских поэтов даны в переводах Ф.Е. Корша и И.П. Умова. В книге не ставилась задача представить поэзию Персии во всей её полноте и многообразии, однако читатель вполне может получить общее впечатление о персидской лирике классического периода X–XV веков.
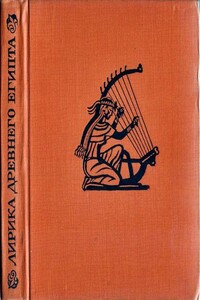
Необыкновенно выразительные, образные и удивительно созвучные современности размышления древних египтян о жизни, любви, смерти, богах, природе, великолепно переведенные ученицей С. Маршака В. Потаповой и не нуждающейся в представлении А. Ахматовой. Издание дополняют вступительная статья, подстрочные переводы и примечания известного советского египтолога И. Кацнельсона.
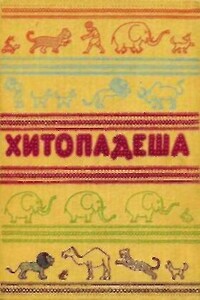
Сквозь тысячелетия и века дошли до наших дней легенды и басни, сказки и притчи Индии — от первобытных, переданных от прадедов к правнуком, до эпических поэм великих поэтов средневековья. Это неисчерпаемая сокровищница народной мудрости. Горсть из этой сокровищницы — «Хитопадеша», сборник занимательных историй, рассказанных будто бы животными животным и преподанных в виде остроумных поучений мудрецом Вишну Шармой избалованным сыновьям раджи. Сборник «Хитопадеша» был написан на санскрите (язык древней и средневековой Индии) и составлена на основе ещё более древнего и знаменитого сборника «Панчатантра» между VI и XIV веками н.
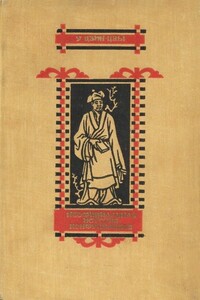
«Неофициальная история конфуцианцев» является одним из лучших образцов китайской классической литературы. Поэт У Цзин-цзы (1701-1754) закончил эту свою единственную прозаическую вещь в конце жизни. Этот роман можно в полной мере назвать литературным памятником и выдающимся образцом китайской классической литературы. На историческом фоне правления династии Мин У Цзин-цзы изобразил современную ему эпоху, населил роман множеством персонажей, начиная от высоких сановников, приближенных императора, и кончая мелкими служащими.
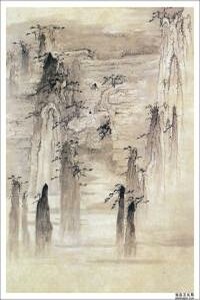
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
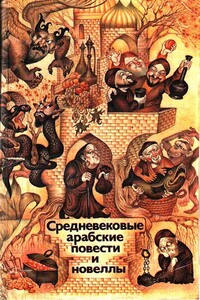
В сборнике представлены образцы распространенных на средневековом Арабском Востоке анонимных повестей и новелл, входящих в широко известный цикл «1001 ночь». Все включенные в сборник произведения переводятся не по каноническому тексту цикла, а по рукописным вариантам, имевшим хождение на Востоке.
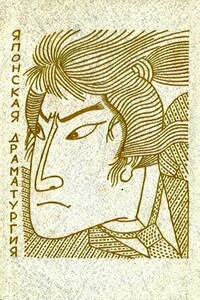
Пьеса «Шелковый фонарь» представляет собой инсценировку популярного сюжета, заимствованного из китайской новеллы «Пионовый фонарь», одной из многочисленных волшебных новелл Минской эпохи (1368 – 1644), жанра, отмеченного у себя на родине множеством высокопоэтичных произведений. В Японии этот жанр стал известен в конце XVI века, приобрел широкую популярность и вызвал многочисленные подражания в форме вольной переработки и разного рода переложений. Сюжет новеллы «Пионовый фонарь» (имеется в виду ручной фонарь, обтянутый алым шелком, похожий на цветок пиона; в данной пьесе – шелковый фонарь) на разные лады многократно интерпретировался в Японии и в прозе, и на театре, и в устном сказе.