Гудериан - [110]
Гудериан, несомненно, был очень искушен и дальновиден в военных делах, что являлось результатом почти исключительного военного образования. В политике он тоже разбирался прекрасно, что доказывает его поведение в критические моменты карьеры. И все же нельзя утверждать, что Гудериан обладал врожденным политическим нюхом, характерным для таких политически ориентированных военачальников, как, например, фон Шлейхер и фон Рейхенау.
Часто Гудериан не мог уловить признаков приближающихся перемен, не мог, как говорили о фон Рейхенау, «услышать шум растущей травы». Не то чтобы Шлейхер или Рейхенау, помогавшие нацистам укреплять их власть, могли безошибочно читать будущее, но они хотя бы распознавали опасности, таящиеся в нацизме, и принимали меры, пусть даже запоздалые и неадекватные, для их обуздания. Гудериан же, наоборот, доверчиво следовал за официальной линией и делал это слишком долго – не просчитав последствия. Иронично то, что он, сформулировавший радикально эффективные военные планы, был склонен к восприятию радикально пагубных политических идей. Готовность встать на сторону экстремистов в прибалтийских государствах в 1919 году, поддержка нацистской программы в середине 30-х, согласие с гитлеровскими догмами и дипломатическими уловками носят на себе печать поверхностности в понимании политических мотиваций и их значения. Следует, однако, добавить, что Гудериан – всего лишь один из многих в Германии и за ее пределами, кого Гитлеру удалось провести. И хотя у него уже вошло в привычку выступать против взглядов в области военного искусства, противоречащих его собственным, случаи, когда он распознал бы и отверг отвратительную в политическом отношении идею, очень редки.
Было бы ошибочно полагать, что германские офицеры закрывали глаза на то, что происходит за воротами казарм. В генеральном штабе квалифицированные специалисты регулярно выступали с лекциями по важнейшим вопросам. Система рухнула, потому что многие видные интеллектуалы бежали из страны либо пожертвовали своей идейной независимостью и честностью, поменяв их на нацистскую идеологию ради личного выживания. Непредвзятую объективную диссертацию невозможно было написать в то время, когда наиболее талантливые представители всех профессий замолчали или искажали свои взгляды и суждения. Явная слабость диссидентов, проявленная в момент становления нацизма, во многом способствовала скатыванию Германии в пропасть угодливой беспринципности и конформизма. Гудериан, рядовые сотрудники генерального штаба и простой народ оказались беззащитными перед разлагающим влиянием зла, особенно в политическом плане. Они попали в ловушку, типичную для немцев, когда поиски Идеала заводят на ложный путь, а затем начинается поспешное практическое воплощение ложного идеала, и никто не задумывается о последствиях. Широко распространено мнение, что, став в 1944 г. главой отделения Н1 штаба оперативного руководства, Гудериан имел лишь весьма слабые шансы круто изменить политический курс или хотя бы оказать на него какое-то влияние, ведь с 1938 года Гитлер, урезав полномочия военного министра, главнокомандующего сухопутными силами и начальника штаба, стал единовластным диктатором. После войны Гудериан писал: «…более молодые офицеры просто в голову взять не могли, как это их старшие начальники могли безропотно смириться с курсом, который, как теперь эти же начальники утверждают, уже тогда распознали как опасный и даже гибельный. Однако случилось именно это, и случилось в то время, когда еще было можно сопротивляться – в мирное время».
И все же, комментируя быстрое возвышение главного командования вооруженных сил – ОКВ, начавшееся в период перевооружения и продолжавшееся в годы войны, когда ОКВ существовало как бы над громоздкой системой из независимых командований трех видов вооруженных сил, Гудериан в послевоенных документах, похоже, не в полной мере оценил последствия устранения жизненно важного политического противовеса. Он принижает деструктивное значение политической стороны этого процесса и в то же время говорит о преимуществах военного фактора. И когда он стал главой в политическом отношении обесценившейся организации – ОКХ, то оказался в очень неблагоприятных условиях, поскольку был лишен возможности оказывать прямое влияние на главу государства, в чем крайне нуждался. Иронично, но по этой причине ему пришлось втянуться в те самые политические интриги, на которые косо смотрел Сект, да и сам Гудериан в прошлом явно не одобрял. Однако в обреченных на неудачу попытках подчинить своему влиянию правительство и закончить войну до того, как Германия будет оккупирована, о правилах и принципах Секта пришлось забыть. Впрочем, неудача ждала не только Гудериана, но и любого другого реформатора, который выступил бы против окопавшейся нацистской иерархии того времени. Просто не осталось никого, кто обладал достаточным мужеством и влиянием, чтобы убедить Гитлера изменить курс или свергнуть этого умственно деградировавшего демагога и его клику. Разумеется, не возбраняется задать вопрос, а смог ли бы Гудериан организовать успешное сопротивление в 1938 году? Однако размышления на эту тему бесплодны. Чтобы преуспеть там, где потерпели провал Бек, Браухич и Гальдер, и тем самым соответствовать самым жестким критериям Уэйвелла, Гудериан должен был обладать престижем и высоким воинским чином – но это пришло к нему лишь во время войны. К тому времени Гитлер относился к нему, как и к остальным, с «презрительным равнодушием».
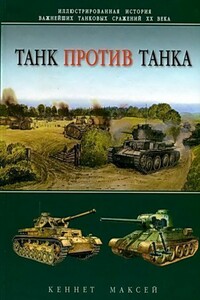
Книга «Танк против танка. Иллюстрированная история важнейших танковых сражений XX в.» – волнующее и глубокое исследование, в котором наглядно прослеживаются этапы эволюции танковых войск в XX веке. Это великолепное издание снабжено многочисленными фотографиями, схемами, диаграммами и специально для него выполненными панорамными иллюстрациями, на которых отражены ключевые моменты описываемых сражений. Написанная майором Кеннетом Максеем, бывшим офицером Королевского танкового полка, участвовавшего в боевых действиях в Европе, начиная с 1944 г., книга не разочарует как подготовленного читателя, так и того, кто лишь начинает свое знакомство с историей военного дела.Прим.
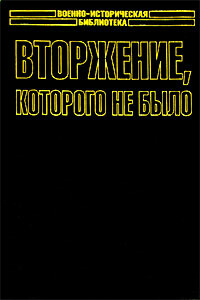
История не знает сослагательного наклонения. Но это вовсе не отменяет столь популярные сейчас исследования на тему: “Что было бы, если бы?..” Что было бы, если бы Гитлер осуществил вторжение в Англию? Что было бы, если бы в августе 41-го он бросил все свои силы на захват Москвы? История Второй мировой войны содержит бесчисленное множество подобных “развилок”, и их исследование — вовсе не никчемное любопытство. Анализируя прошлое, мы созидаем настоящее и изменяем будущее. “Альтернативы” — это не учебник с правильными или неправильными рецептами лечения уже отошедшей в прошлое болезни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.
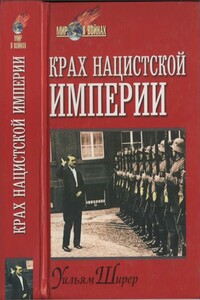
На основе обширных материалов, мемуаров и дневников дипломатов, политиков, генералов, лиц из окружения Гитлера, а также личных воспоминаний автор — известный американский журналист — рассказывает о многих исторических событиях, связанных с кровавой историей германского фашизма.
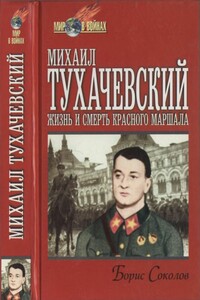
В лагере белой эмиграции Тухачевского считали беспринципным карьеристом, готовым проливать чью угодно кровь ради собственной карьеры. В СССР, напротив, развивался культ самого молодого командарма, победившего Колчака и Деникина. Постараемся же понять где истина, где красивая легенда, а где злобный навет…
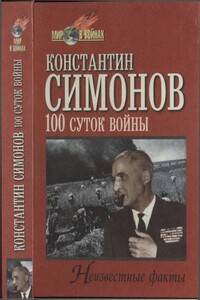
Ранее не публиковавшаяся полностью книга воспоминаний известного советского писателя написана на основе его фронтовых дневников. Автор правдиво и откровенно рассказывает о начале Великой Отечественной войны, о ее первых трагических ста днях и ночах, о людях, которые приняли на себя первый, самый страшный удар гитлеровской военной машины.
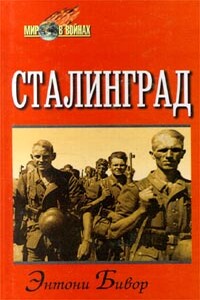
Сталинградская битва – наиболее драматический эпизод Второй мировой войны, её поворотный пункт и первое в новейшей истории сражение в условиях огромного современного города. «Сталинград» Э. Бивора, ставший бестселлером в США, Великобритании и странах Европы, – новый взгляд на события, о которых написаны сотни книг. Это – повествование, основанное не на анализе стратегии грандиозного сражения, а на личном опыте его участников – солдат и офицеров, воевавших по разные стороны окопов. Авторское исследование включило в себя солдатские дневники и письма, многочисленные архивные документы и материалы, полученные при личных встречах с участниками великой битвы на Волге.