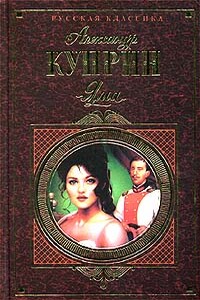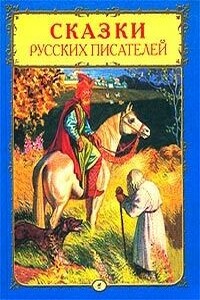Но Кудеяр инстинктом понял весь насекомый страх, переполнявший душу писателя, и гнев его отошел. Он сказал только, обращаясь к Груне, презрительно:
– Нашла тоже кусок г…!
И осторожно, соразмеряя свою необъятную силу с незначительностью сопротивляющейся массы, он хлопнул Гущина ладонью по затылку. У того ляскнули зубы, больно прикусив язык; подбородок, ударившись в чайное блюдечко, разбил его вдребезги, а в зажмуренных глазах известного писателя запрыгали красные звезды, заплавали лазоревые озера…
Через час Гущин осторожно прокрался наверх, на палубу. Пароход только что миновал пристань Лямь. Чуть ущербленный стоял над головой, на безоблачном небе печальный месяц. Плоские берега были темны, и кусты на них точно прятались, пригнувшись к земле. По воде бродили разорванные туманы. Поручни, скамейки, канаты были мокры и серы от росы. Пахло утром. Петухи в деревне хрипло перекликались. Дежурный матрос лениво выпевал на носу:
– Шесть с половиной… Ше-есть… Полнаметки…
На том же месте, где и раньше, сидела девушка в черном монашеском платье. Но, увидав ее, Гущин с чувством страха и жгучего стыда поспешно возвратился вниз, в каюту.
Он долго не мог заснуть. В тесном помещении было душно и жарко, противно пахло смазными сапогами, селедкой и зловонной дешевой жирной пудрой. И хотелось Гущину плакать от сознания того, что он такой бессильный, трусливый, скупой, гаденький, бездарный и глупый и что нет у него ни воли, ни желаний. Притом снились ему его недавние вагонные разговоры о себе и о писательстве, и стало ему так колюче совестно, как это бывает только ночью, в одиночестве, во время бессонницы.
Утром лакей постучал в дверь: «Подходим к Весьегонску, – сказал он и добавил со скверной улыбкой. – Хорошо ли почивать изволили?» Гущин ничего не ответил и дал ему двугривенный, который тот принял без благодарности. Наверху уже не было ни Груни, ни Кудеяра. Они сошли раньше на пристани Вознесенской.