Город, написанный по памяти [заметки]
1
До времени закроем глаза на классовый подход, когда детей «бывших», будь ты хоть семи пядей во лбу, в вузы не принимали – что, кстати говоря, декларировалось открыто, в отличие, скажем, от отбраковки по «пятому пункту» в семидесятых-восьмидесятых, когда государство действовало исподтишка.
2
Постановление СНК № 638 от 26.10.1940 действовало вплоть до его отмены в 1956 году.
3
Пересказывая эту давнюю историю, я вовсе не утверждаю, будто она во всех деталях совпадает «с жизнью». Тот, кого я самочинно нарекла Колей, в действительности мог быть Валентином. И в Институте киноинженеров, вполне возможно, учился не Коля, а, например, Сергей. Здесь важен собирательный образ маминых воздыхателей, пылких – но лишь с их стороны. Мама сохраняла на диво трезвую голову, во всяком случае, замуж ни за кого из них не собиралась. Главным препятствием служило то, что по роковому (для них) стечению обстоятельств все ее «женихи» были иногородними. Что – согласно советскому домостроевскому принципу: куда иголка, туда и нитка, лежавшему в основе послевузовского распределения, – означало неизбежный отъезд из Ленинграда. Чтобы этого избежать, она и вела себя как Пенелопа: завязав романтические отношения, вскорости их распускала.
4
Обратившись к русской литературе, можно сказать, что родила она по-крестьянски – у литературных крестьянок так заведено: рожать на меже. Посудите сами. В роддом она поступила в 8:00. По совету санитарки, дежурившей в приемном покое, будущий отец кинулся за шоколадкой. Соседний магазин открылся в 9:00. В 9:10 он примчался обратно, но из окошечка ему сообщили: сам ешь. Нельзя. Уже родила.
5
То, что все дети выжили (при общероссийской-то чудовищной детской смертности) – еще один весомый аргумент в защиту ремесел против черного крестьянского труда.
6
Быть может, ее Бог, родившийся и выросший в деревне, был тихим и нетребовательным, в кухонные дела не вмешивался, знай себе поглядывал с иконки, висевший над ее изголовьем; или, подобно Духу, витавшему над доисторической бездной, веял себе за окном.
7
По праву свободной аналогии мне вспоминается другая история: Иакова, внука Авраама, родоначальника «двенадцати колен». Как известно, этот библейский персонаж, покинув отчий дом, сражается с Богом; по другим источникам – с ангелом. Однако в Книге противник Иакова назван уклончиво: «некто» – определение как нельзя лучше подходящее Истории и Судьбе. Результатом битвы, из которой никто не вышел победителем, но и побежденным ни один не остался, стало сломанное бедро. Повреждением конечностей символические (для меня) совпадения не исчерпываются: ведь подобно Иакову, имевшему брата Исава, бабушка, имевшая брата Ивана, тоже из близнецов.
8
Кстати, деревенские цены она тоже помнила: например, корова – в зависимости от молочной продуктивности и прочих важных качеств – стоила от 3 до 5 рублей.
9
Авторефераты докторских диссертаций этих светильников разума мне доводилось читать. В мое время их «научные выводы» казались смешными. Однако старорежимным профессорам, которых они постепенно вытесняли (в лучшем случае «за штат», в худшем – на нары, а то и подводили под расстрел), было не до смеха.
10
Еще один пример «перекоммутации»: до революции Красноармейские улицы назывались Ротами. Всего их насчитывалось двенадцать (тринадцатая – Заротная) по числу ротных подразделений Измайловского лейб-гвардии полка.
11
Ленинградцы знают этот дневник, маленькую записную книжку, обтянутую шелком, в котором одиннадцатилетняя блокадная девочка ведет свой страшный учет. Последняя запись, сделанная одеревенелыми пальцами: «Осталась одна Таня».
12
Уже перенося мамин рассказ на бумагу, я задумалась, стоит ли оставлять в тексте все без исключения имена. В конце концов, читателю нет до них дела. А потом решила: пусть эти люди останутся. Хотя бы здесь.
13
На самом деле сад бывшей усадьбы Г. Р. Державина (теперь его дом-музей). Фасадом усадьба выходит на Фонтанку. Название Польский – по близости католического собора Успения Пресвятой Девы Марии, куда ходили в основном поляки.
14
Финская «Tikka-koski», в русском просторечии «Тика», которую мама купила в середине пятидесятых, давала неплохое качество строчки, но до «Зингера» не дотягивала. Лет через десять в доме появилась «Veritas», производства ГДР, – эта считалась «белошвейкой»: тонкую ткань брала хорошо, с толстой то и дело капризничала. Следующая, уже моя собственная, «подольская», отечественного производства – года через два, отчаявшись добиться более-менее сносной работы, я перевела ее в разряд тумбочек. Мои мучения закончились с появлением «Brothers» – этому детищу японских инженеров подвластно всё. Но меня – в первый же день, едва я за нее села, – изумило даже не число операций (сказать по правде, мне хватило бы и четверти), а странное ощущение: будто эти, дай им Господь здоровья, инженеры, прежде чем принимать конструктивные решения, нашли время, чтобы поговорить со мной по-человечески, разузнать, а чего мне, собственно говоря, хочется. Не надоело ли колдовать над втачными петлями или, скажем, тупо слюнявить нитку, чтобы вдеть ее – с третьего, а то и с четвертого захода – в игольное ушко (а вдруг, паче чаяния, я мечтаю о «петле-автомате» и нитевдевателе); или, вставив шпульку в колпачок, шарить в нутре челночного механизма слепыми пальцами, пока этот чертов колпачок не сядет в конце концов на штифт. Я уж молчу про смену лапки: одним движением и безо всякой тебе отвертки, обрыдшей до такой степени, что семь раз подумаешь, прежде чем эту лапку поменять.
15
Вместо заполошных восклицаний: Как?! Разве с этим позорным для молодой советской страны явлением не покончено еще в двадцатых? – хочется уточнить: что это там за дети в люках – рабочих, чьим отпрыскам не хватило мест в детдомах, заполненных детьми врагов народа; или, наоборот, врагов народа, чьим детям, оставленным на произвол судьбы, все-таки удалось уйти незамеченными, проскользнуть сквозь пальцы «передового отряда большевиков», ленинградского ВЧК?
16
После успеха моего романа «Время женщин» к маме приезжала съемочная группа НТВ. Расспрашивали про войну. Мама достала довоенный снимок. Стараясь говорить ровно, называла имена умерших девочек. Я слышала – не просто называет – отдает последнюю дань: если не вспомнить сейчас, потом будет поздно. Телевизионщики записывали, кивали. А потом вы́резали – профессионально равнодушной рукой.
17
Многотомное издание (серия книг памяти о репрессированных в советское время ленинградцах, издаваемая Центром «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке) – дело жизни А. Я. Разумова, которое он, петербургский историк, начал тридцать лет назад на свой страх и риск. Серия должна состоять из 17 томов. К настоящему времени (февраль 2019) вышло 13.
18
Кардинальные подвижки в этой области случились в следующем поколении. Мой отец пил редко. Как принято говорить, по праздникам. Но, выпив, мрачнел. Однажды, уж не знаю, по какому поводу, замахнулся на маму. Дело было на кухне. Взяв за дужку кипящий чайник, мама сказала твердо: «Только попробуй». Этим и завершилось. Навсегда.
19
В комсомольский субботник нашу институтскую группу загнали на хлебозавод. Меня определили к хлебному конвейеру. Минут десять-пятнадцать, едва дыша от жары – казалось, кровь сворачивается в жилах, – я тупо нажимала на кнопку. Пока не очнулась в «холодильнике»: что-то вроде прохладной комнаты, куда сердобольные женщины-работницы меня отволокли.
20
Однажды, оказавшись в Дареме, я вдруг подумала: а ведь я же ее внучка. И неожиданно остро осознала, какая между нами пропасть: для меня и эта лекция, и Darhem, городок на севере Англии, и его крепость, по-кафкиански внушительно взирающая на город с высокой горы, и я, читающая лекцию по-английски, – эпизод писательской жизни. Для нее – марсианские хроники.
21
Доказательства чекистского служебного рвения вышли на свет в 2004-м, когда издательский дом «Нева» (да простятся ему за это чудовищные корректорские ляпы!) выпустил двухтомник Никиты Ломагина «Неизвестная блокада».
22
Через много лет выяснилось: слухи о «сигнальщиках» пустили те же самые «компетентные органы». Они же их и пресекли. Когда «бдительность» граждан, хватавших сотни «подозрительных личностей», перешла все разумные пределы. А то, что граждане «видели своими глазами» – разноцветные выстрелы из ракетниц. Так, в темноте, в грохоте орудийных залпов, «переговаривались» друг с другом командиры стоящих в садах и скверах зенитных батарей.
23
Летом, в централизованном порядке, все окна заклеили бумажными крестами. После первых бомбежек выяснилось: от взрывной волны кресты не спасают. Кто мог, вызывали стекольщика. Зимой о стекольщиках уже не помышляли. Голые рамы закладывали тем, что попадалось под руку: одеялами, подушками, тряпками – лишь бы удержать остатки тепла.
24
Хочется послушать «отцов города» – они-то, интересно, чем думали? Почему не обратились по радио: пока, мол, суть да дело, запасайтесь дровами. Без паники, потихоньку. Зима все равно наступит. От генерала Мороза «ежами» не загородишься, не говоря уже о рвах, которые мы гоняем вас рыть.
25
По google-карте 115,1 км от Гатчины. Примерное время в пути – если не пешком, а на машине – 138 мин.
26
Одна из невыносимых сцен мирового кинематографа: «Выбор Софи», те несколько секунд, когда она сама выбирает, кого – сына или дочь – отправить на смерть. Пережив эту сцену однажды, я отключала изображение и звук. Но в блокадном Ленинграде выбор еще страшнее. Потому что длится: в ноябре – недели, в декабре-январе – дни.
27
Из блокадного дневника Л. К. Заболотской. Цитирую по книге: Сергей Яров. Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг.
28
Если смотреть с Пулковских высот, где закрепились немцы, Международный проспект тянется с юга на север. По условиям блокадного времени это означает, что, в отличие, скажем, от Невского, тут нет стороны, «наиболее опасной при артобстреле». Обе опасны одинаково.
29
Уезжать или оставаться? – в блокадных условиях вопрос вопросов. Одни делали выбор сознательно, другие подчинялись обстоятельствам. Кто-то мечтал уехать, но так и не добился разрешения. В ленинградских дневниках остались свидетельства блокадных селекций, когда, решая вопрос об эвакуации детского дома, начальство отбраковывало самых слабых: все равно ведь не доедет, умрет по дороге, только место займет. Умирающие подростки старались доказать, что еще в силах – могут самостоятельно, без помощи взрослых, сделать десяток шагов от стенки до стенки. Но у воспитателей, занимавшихся естественным отбором, был наметанный глаз.
Наряду с заведомо обреченными в городе оставались те, кого бабушка называла «не́жить»: директора продуктовых баз, управхозы – эти, обогатившиеся в смертное время, от эвакуации отказывались. Боялись оставить без присмотра «нажитое» добро.
30
Центром эвакуации Финляндский вокзал стал по двум причинам: во-первых, ближайший к Ладоге; во-вторых, единственный из ленинградских вокзалов, который находится вне зоны действия немецкой артиллерии.
31
Чтобы перепроверить мамину память, я открываю интернет. «Город находился в прифронтовой полосе. Но, несмотря на частые налеты вражеской авиации, ни одна авиационная бомба так и не была сброшена, – а дальше вот оно, то самое: – В народе считается, что беду отвели ангелы: не зря Вологду называли богоспасаемым градом…» Я повторяю про себя: богоспасаемым. Так считается в народе, простом, как вологодский конвой. Ну и где ж они были, эти самые ангелы, когда там, у нас, в Ленинграде…
Бабушка морщит губы – не то плачет, не то усмехается:
– Не плачь. Ты же большая девочка. Твой народ – ленинградцы.
– Все? И Марфушка? – Пусть она решает, это же ее комната, как решит, так и будет.
Но бабушка молчит.
32
Из этого одностороннего диалога можно заключить: о блокаде на Урале слышали, но что в действительности происходит в Ленинграде, этого местные не знают. Для них все эвакуированные – что ленинградцы, что москвичи – на одно лицо. Но в этом их трудно винить. Масштабы ленинградского бедствия власти тщательно скрывают, напирая на героизм: дескать, город живет, сражается…
33
Чтобы вернуться в Ленинград, требуется специальное разрешение. В стандартном запросе следует указать имя, состав семьи, профессию, причину, по которой необходим въезд («Мечтаю вернуться в родной и любимый город» уважительной не считается), и довоенный адрес. Но главное – обеспеченность жильем. Для многих ленинградцев этот пункт стал камнем преткновения: без комнаты, куда можно прописаться, ни карточек, ни работы не дают. Прописаться, в принципе, возможно: если дом не разбомбило, если комната не занята другими жильцами. Чтобы их выселить, необходимо решение суда. Но в том-то и дело, что преимущественное право на жилплощадь имеют те, кто не эвакуировался. За ними – военнослужащие. Реэвакуанты в этой очереди третьи. «Уехали – сами виноваты!» «Отцам города» ни к чему лишние свидетели. Городское начальство предусмотрительно заметает следы.
34
Как же быстро они, которые в своем праве, перенимают мертвые слова…
35
Ленинградский НКВД рисует «страшную» картину. Если верить этим зарисовкам, в январе 1941-го «оппозиционные настроения» овладели девятью процентами ленинградских умов. В последней январской декаде процент «сознательных антисоветчиков» вырос до 20. Ладно бы «настроения» – но внутренние враги действуют. Десятки тайных организаций, словно взяв пример с фашистских пропагандистов, призывают умирающих горожан взять дело спасения в свои руки. «Прекратите сопротивление! Требуйте сдачи города!» – призывы словно списаны с немецких листовок, белыми (цвет униженной мольбы о помиловании) стаями кружащих над Ленинградом. Разве что без «жидов-комиссаров», чьи «морды просят кирпича». Отчеты по карательной линии фиксируют и «многочисленные призывы к бунтам», звучащие в хлебных очередях. Кажется, еще чуть-чуть, и стихийная волна народного гнева сметет – как не справившуюся со своими прямыми обязанностями – родную советскую власть.
Дыма без огня не бывает? Остается понять: что в данном случае – огонь. Отдельные призывы? Возможно. Еще вернее, сполохи последнего отчаяния, за которыми – край, голодная апатия, похожая на предсмертный сон.
Но свержение советской власти как осознанная стратегия сотен и тысяч ленинградцев… Мне, полжизни прожившей в СССР, а вторую половину – в постсоветской России, куда проще верится в другое: здоровые мужики призывного возраста отрабатывают свой «хлеб», а главное, бронь. Чтобы удержаться на «теплом» стуле, не загреметь на передовую, следует многократно преувеличить число «врагов и ненадежного элемента»: этой гнилой тактики они придерживались и раньше, в годы тотального террора.
36
Побочным следствием маминой непререкаемой решимости стало спасение советской фарфоровой промышленности от провинциального прозябания. Отцовскому уму принадлежат кардинальные инженерно-технические решения, позволившие – если не ошибаюсь, уже в конце 1960-х – запустить поточные линии, с которых сходили прозрачные чашечки и блюдца. За костяной фарфор иностранцы охотно расплачивались твердой валютой: он шел на экспорт наряду с нефтью, газом и всякими металлами. Японцы, признанные эксперты по фарфору, только головами качали: и как Семен-сану удалось добиться эдакого качества на таком, уж простите за прямоту, сомнительном сырье.
37
Порой я задумываюсь о том, что стало бы с моей памятью, если бы меня отдали в детский сад. Или нагрузили бесчисленными кружками, от которых – не то что задуматься – продохнуть некогда. Это кружковое безумие меня не накрыло. На мое счастье, в маминой памяти осталось другое воспитание: тихое и несуетное, полученное от «бывшей» гувернантки, угасшей прежде, чем ее последняя воспитанница осознала, что Анна Дмитриевна успела в нее (а значит, и в меня) вложить.
38
Этим открытием (даже не знаю, как его назвать, пусть будет: волшебная сила искусства), по существу определившим мою будущую иерархию ценностей, я обязана великим балетным танцовщикам Алле Осипенко и Юрию Соловьеву. Встретив Аллу Евгеньевну – через много лет и в иных, куда более прозаических обстоятельствах, – я успела ее поблагодарить. Юрия Владимировича Соловьева (и вправду умевшего левитировать – позже я нашла письменные свидетельства тому, что видела собственными глазами) мне, увы, поблагодарить не довелось.
39
После жизни в коммуналках (в наши дни о ней принято складывать ностальгические сказки: жили, мол, тесно, зато дружно) советские люди радовались и таким отдельным курятникам с потолками два сорок и пятиметровыми кухнями. Не в последнюю очередь по той причине, что можно разговаривать, не опасаясь соседских длинных ушей.
40
Правильное название: «маршрутные огни». Для цветовой кодировки используется 5 цветов: белый, синий, красный, зеленый и желтый. Во избежание путаницы цвета подбираются с тем расчетом, чтобы к каждой трамвайной остановке подъезжали разные, не повторяющие друг друга сочетания огоньков. Эта давняя, с 1910 года, петербургская традиция прерывалась лишь на время блокады.
41
Хотя одно более-менее правдоподобное объяснение у меня есть: копить деньги не в сберкассе (где лицевой счет можно в любой момент закрыть или, по меньшей мере, снять с него изрядную толику) – верный способ оградить себя от соблазна ненужных трат. Но зачем это было моим родителям, если и на самые необходимые они решались с трудом. Так, в нашем доме не водилось ни диванов, ни кресел. Хочешь отдохнуть – сядь на стул. Непростительная манера заваливаться на кровать, что мы с сестрой, собственно, и делали, вызывала недовольство отца. В его понимание жизни (еврей по крови, по образу жизни он был сущим протестантом-трудоголиком) такое поведение никак не укладывалось: что хорошего – а главное, нужного – можно делать средь бела дня, развалившись на кровати? Читать? Нормальные люди читают сидя.
42
Почти не сомневаюсь, мое глубокое уважение к силе слова выросло из тех дней. Во всяком случае, пустило росток, позже давший завязь еще одного знания, важнейшего для советской жизни, в которой, знакомясь с человеком, приходится отвечать на главный вопрос: свой или чужой? Ответ можно прочесть по мимике, активному вокабуляру, способу строить предложения. Что, конечно, не исключает ошибок: тот, кого ты принял за «своего», на самом деле мог оказаться еще и «своим среди чужих». Но эти экзистенциальные тонкости все-таки относятся к взрослому существованию, до которого мне еще предстояло дорасти.
43
Для тех, кто этих вставочек не застал: чем шире отстоят друг от друга двойные металлические кончики, тем несподручнее писать. Такое перышко царапает бумагу, мало этого, сажает кляксы.
44
В глазах Сталина Ленинград – главная послевоенная мишень, объект кристальной, безо всяких посторонних примесей ненависти. Причину следует искать в чувстве собственного достоинства ленинградцев, переживших блокаду: у одних оно всколыхнулось в замордованной памяти, у других родилось в блокадное время – впервые и вновь.
45
Возможно, именно блокадный трагизм, пронзивший мою детскую память, со временем и привел меня к осознанию того, что жизнь должна иметь смысл, выходящий за рамки естества. Говоря философским языком, я ощутила себя не «природным человеком», чья судьба – бессловесно и безропотно раствориться в густом потоке поколений, а монадой, имеющей свое предназначение во вселенной. Пусть и самое скромное.
46
Подробности я узнала от своей школьной подруги – в этом дальнем флигеле ее семья жила до войны. Бомба ухнула днем. О времени суток можно говорить с полной определенностью, поскольку в самый момент взрыва ее тетя стояла на подоконнике, мыла окно. Осколки вышибленных взрывной волной стекол впились ей в спину – по счастью, она стояла не лицом, а спиной к окну.
После пожара их семье удалось найти новое прибежище: поблизости, в доме № 18, где моя подруга, собственно говоря, и родилась.
47
Года через четыре я узнала стороной: после восьмого класса Вовка поступил в военное училище или что-то в этом роде. Словом, стал бравым советским офицером. Ведь это до революции, как говаривала моя бабушка, офицеры были «белой косточкой». В мое время армию и прочие силовые структуры выбирали те, кто не знал иной – не дворовой – жизни. Кто попался на ее ржавый крючок.
Но и закрыв глаза на эти житейские оговорки (которые я пускаю в ход, лишь бы до некоторой степени смягчить, а то и заретушировать грани «эволюционного», как было заявлено, противостояния) – я не стану утверждать, что, вспоминая ту, полудетскую, историю, не рисую по ее левкасу куда более поздней темперой, замешанной на моих взрослых наблюдениях. В конце концов, он был всего лишь недалеким парнем, которому просто не приходило в голову, что здесь, в Ленинграде, за слово можно и схлопотать. Причем не словом, а делом.
Пусть так. Но все равно эта история важна. И, полагаю, не только для меня.
48
Нет, не о спасении. Я – о том, что в решающий момент эти «правильные» девы не пришли на помощь «неправильным»: зная, что земное время кончается, хладнокровно отвернулись, послав их за маслом на базар. Я, родившаяся в городе, в котором все переводится на язык хлеба, думаю: ведь так могла поступить и тетя Настя. Но она, неблагоразумная, сходила и принесла. Муки́. Жизни. Полный до краев стакан.
49
Теперь, когда мой нынешний возраст перешел границы их жизненных сроков, я задаюсь трудным вопросом: в какой степени мы становимся «повторением» наших предков – их свойств, жестов, привычек, их глаз и формы рук; вплоть до истин, которые они в продолжение жизни выстрадали. А в какой порываем с ними. Обязаны порвать.
Но тогда, в юности, уже переживая внутри себя эту распрю: между тем, что было, и тем, что есть и будет, – я еще не заходила так далеко.
50
Ближайшая аналогия: стратегия советской власти по выведению своего собственного генетически модифицированного человека, homo soveticus’а – по видимости столь же эффективная, а на деле давшая противоположный, по сути и смыслу, результат.
51
Чему я несомненно рада. Сохрани Ленинград столичную функцию, тут бы и камня на камне не оставили. Безусловной радости мешают два обстоятельства. Первое: метро – в глубоких (глубже, чем московские) шахтах ленинградцы могли бы прятаться от бомбежек и обстрелов. Другое и главное: блокада. Думая об этом, я, словно воочию, вижу свежие сибирские дивизии, вот они идут, печатая шаг, по Дворцовой площади 7 ноября 1941-го – и дальше, по Невскому проспекту, до линии обороны, чтобы, встав на этом смертельном рубеже, врывшись в мерзлую землю, уже через месяц, 5 декабря (сотни тысяч горожан еще не умерли, они живы), перейти в решающее контрнаступление и, начиная с этой минуты, гнать вражеские войска прочь – от ленинградского рубежа.
52
Кстати, в Петербурге случаются и солнечные дни, хотя жители других городов в этом сомневаются, а москвичи так просто не верят.
53
Во времена моей юности это понятие было оценочным: одеваться – означало не вообще, например, утром, собираясь в школу, а хорошо. Не столько дорого, сколько красиво и со вкусом. Дорогим оно станет позже, когда в жизнь советских людей войдут сертификаты (эвфемизм иностранной валюты), магазины «Березка» и прочие закутки и «галереи», где все продавалось-покупалось втридорога. Как тогда говорили: с рук.
54
Через мои руки их прошло немало. Были и те, что я перепечатывала собственноручно. В восьмидесятых, понимая, чем это может мне грозить, я радовалась, что освоила портновское ремесло: если все-таки посадят, буду обшивать жен тюремщиков – и тем спасусь.
55
В фабричных условиях это более-менее понятно: премии-то начислялись не за точность заявленных на ярлычке параметров – покупатель, не будь дурак, примерит, – а за более важные достижения, вроде фактической экономии расхода ткани по сравнению с плановой. А если учесть, что выбор тканей и фасонов осуществляли те же самые, упомянутые выше, методисты, неудивительно, что горожанки фабричных изделий не носили. Во всяком случае, те из нас, кто следили за модой и хотели выглядеть прилично. Советская легкая промышленность обшивала в основном «провинциальных дам». Не знаю, как там все остальные «разрывы между городом и деревней» (о преодолении которых советская власть трындела до последнего предсмертного хрипа), этот с годами только ширился. В семидесятых он уже походил на пропасть. Те, кто это носили, словно застряли в шестидесятых.
56
Гражданская несвобода задевала моего отца самым непосредственным образом. На все письма-приглашения, приходившие по его инженерскую душу, васильковые тульи Первого отдела, курирующие профильное министерство, отвечали вежливым отказом: дескать, мы страшно сожалеем, но господин главный инженер занят, прямо ни минутки свободного времени, чтобы посетить, как ее там, ах да, Японию (варианты незакрытых карточек: Германия, Англия, Китай).
Не иначе, мстили по-мелкому за давнюю, новгородскую, историю – мамино скажи им там.
57
Речь, разумеется, о нашем стане. Те, что приглядывали за нами из-за периметра, искали защиты от безвременья в крайнем, чтобы не сказать – махровом, цинизме.
58
Если обратиться к самим правилам, суть дела такова. В здешнем высокоорганизованном пространстве любой текст, претендующий на то, чтобы называться «петербургским», должен быть высокоорганизован (выражаясь швейным языком: сложно скроен). Безо всяких ужимок и уверток: читатель-де попроще не поймет. Расчет на опытных читателей, читателей-профессионалов, каждый из которых сродни археологу: под верхним, нарративным, слоем он способен, а значит, имеет право обнаружить и другие слои.
В свою очередь это означает, что по само́й своей природе здешний текст сугубо иерархичен. Он – сложная конструкция, обладающая разветвленной внутренней структурой, строя которую, необходимо осознавать, где у нее – а, значит, и у вас – «верх», а где «низ». Плохая новость в том, что выбор между бытописанием и трагедией заведомо исключается: в пространстве нового «петербургского текста» меж ними, как меж Невой и небом, стерлась грань. Есть, однако, и хорошая: коли выбор сделан правильно, все, что ушло в подтекст, проявится само.
Еще одно, но непреложное: новые экзистенциальные и культурные смыслы (граница так же сомнительна) вырастают не на пустом месте, а пробиваются из недр генетической памяти. Иначе и заводиться не стоит: в здешних гнилых и топких болотах сгинет все, что лишено корней.
59
В пользу этой версии говорит и другая история. Тогда же, году в 1963-м (за точность даты не ручаюсь), в Русском музее проходила выставка дворянского портрета. Услыхав объявление по радио, бабушка Дуня заявила, что должна непременно ее посетить. Опираясь о мамину руку, она обходила выставочные залы, ненадолго задерживаясь у каждого мужского портрета, пока – остановившись напротив одного и не глядя на маму – сказала тихо, но твердо: «Это – твой дед».
60
Вы спросите: а как же Васса Борисовна, в девичестве Храпова, и ее невестка Рашель, жена любимого сына? Но, согласитесь, одно дело, если сын женится на красавице иудейке, другое – отдать свою, православную, красавицу за нищего еврея. Да и где им было бы встретиться – в какой, Господи прости меня, булочной, в которой мама, богатая наследница, сидела бы за кассой?
61
Повторю: при том необходимом и, похоже, достаточном условии, что российская жизнь не подвергнута колесованию. Как ни странно, ни горько осознавать, но именно круговращению этого пыточного колеса, на котором ломались социальные и национальные суставы-сочленения, я (не абстрактная дочь своей матери, а я как таковая: в русско-еврейской плоти и крови) обязана своим появлением на свет.
62
Второе начнется в середине тридцатых и пойдет с этих пор крутыми перекатами – вплоть до смерти «Отца народов, Великого вождя».
63
Формальным поводом послужил дипломатический конфликт с Великобританией, порожденный политикой СССР по «экспорту революции». Его следствием стало расторжение торговых отношений. Внутри страны этот, в сущности, провал советской внешней политики преподносился как подготовка к новой интервенции со стороны иностранных государств. На его фоне и началось нагнетание «предвоенного психоза».

Елена Чижова – коренная петербурженка, автор четырех романов, последний – «Время женщин» – был удостоен премии «РУССКИЙ БУКЕР». Судьба главной героини романа – жесткий парафраз на тему народного фильма «Москва слезам не верит». Тихую лимитчицу Антонину соблазняет питерский «стиляга», она рожает от него дочь и вскоре умирает, доверив девочку трем питерским старухам «из бывших», соседкам по коммунальной квартире, – Ариадне, Гликерии и Евдокии. О них, о «той» жизни – хрупкой, ушедшей, но удивительно настоящей – и ведет рассказ выросшая дочь героини, художница… В книгу также вошел роман «Крошки Цахес».

В романе «Крошки Цахес» события разворачиваются в элитарной советской школе. На подмостках школьной сцены ставятся шекспировские трагедии, и этот мир высоких страстей совсем непохож на реальный… Его создала учительница Ф., волевая женщина, self-made women. «Английская школа – это я», – говорит Ф. и умело манипулирует юными актерами, желая обрести единомышленников в сегодняшней реальности, которую презирает.Но дети, эти крошки Цахес, поначалу безоглядно доверяющие Ф., предают ее… Все, кроме одной – той самой, что рассказала эту историю.

Елена Чижова – автор пяти романов. Последний из них, «Время женщин», был удостоен премии «Русский Букер», а «Лавра» и «Полукровка» (в журнальном варианте – «Преступница») входили в шорт-листы этой престижной премии. Героиня романа Маша Арго талантлива, амбициозна, любит историю, потому что хочет найти ответ «на самый важный вопрос – почему?». На истфак Ленинградского университета ей мешает поступить пресловутый пятый пункт: на дворе середина семидесятых. Девушка идет на рискованный шаг – подделывает анкету, поступает и… начинает «партизанскую» войну.

Новый роман букеровского лауреата Елены Чижовой написан в жанре антиутопии, обращенной в прошлое: в Великую Отечественную войну немецкие войска дошли до Урала. Граница прошла по Уральскому хребту: на Востоке – СССР, на Западе – оккупированная немцами Россия. Перед читателем разворачивается альтернативная история государств – советского и профашистского – и история двух молодых людей, выросших по разные стороны Хребта, их дружба-вражда, вылившаяся в предательство.
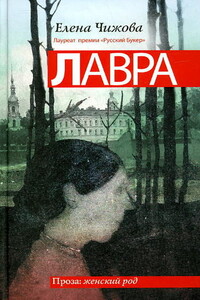
Елена Чижова, автор книг «Время женщин» («Русский Букер»), «Полукровка», «Крошки Цахес», в романе «Лавра» (шортлист премии «Русский Букер») продолжает свою энциклопедию жизни.На этот раз ее героиня – жена неофита-священника в «застойные годы» – постигает азы непростого церковного быта и бытия… Незаурядная интеллигентная женщина, она истово погружается в новую для нее реальность, веря, что именно здесь скроется от фальши и разочарований повседневности. Но и здесь ее ждет трагическая подмена…Роман не сводится к церковной теме, это скорее попытка воссоздания ушедшего времени, одного из его образов.

Действие романа разворачивается во время оккупации Греции немецкими и итальянскими войсками в провинциальном городке Бастион. Главная героиня книги – девушка Рарау. Еще до оккупации ее отец ушел на Албанский фронт, оставив жену и троих детей – Рарау и двух ее братьев. В стране начинается голод, и, чтобы спасти детей, мать Рарау становится любовницей итальянского офицера. С освобождением страны всех женщин и семьи, которые принимали у себя в домах врагов родины, записывают в предатели и провозят по всему городу в грузовике в знак публичного унижения.

Роман «Открытый город» (2011) стал громким дебютом Теджу Коула, американского писателя нигерийского происхождения. Книга во многом парадоксальна: герой, молодой психиатр, не анализирует свои душевные состояния, его откровенные рассказы о прошлом обрывочны, четкого зачина нет, а финалов – целых три, и все – открытые. При этом в книге отражены актуальные для героя и XXI века в целом общественно- политические проблемы: иммиграция, мультикультурализм, исторические психологические травмы. Книга содержит нецензурную брань. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Джозеф Хансен (1923–2004) — крупнейший американский писатель, автор более 40 книг, долгие годы преподававший художественную литературу в Лос-анджелесском университете. В США и Великобритании известность ему принесла серия популярных детективных романов, главный герой которых — частный детектив Дэйв Брандсеттер. Роман «Год Иова», согласно отзывам большинства критиков, является лучшим произведением Хансена. «Год Иова» — 12 месяцев на рубеже 1980-х годов. Быт голливудского актера-гея Оливера Джуита. Ему за 50, у него очаровательный молодой любовник Билл, который, кажется, больше любит образ, созданный Оливером на экране, чем его самого.
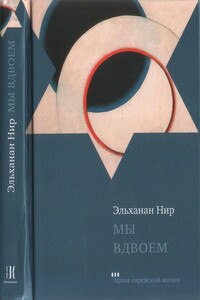
Пристально вглядываясь в себя, в прошлое и настоящее своей семьи, Йонатан Лехави пытается понять причину выпавших на его долю тяжелых испытаний. Подающий надежды в ешиве, он, боясь груза ответственности, бросает обучение и стремится к тихой семейной жизни, хочет стать незаметным. Однако события развиваются помимо его воли, и раз за разом Йонатан оказывается перед новым выбором, пока жизнь, по сути, не возвращает его туда, откуда он когда-то ушел. «Необходимо быть в движении и всегда спрашивать себя, чего ищет душа, чего хочет время, чего хочет Всевышний», — сказал в одном из интервью Эльханан Нир.
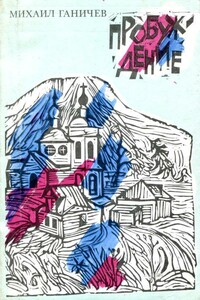
Михаил Ганичев — имя новое в нашей литературе. Его судьба, отразившаяся в повести «Пробуждение», тесно связана с Череповецким металлургическим комбинатом, где он до сих пор работает начальником цеха. Боль за родную русскую землю, за нелегкую жизнь земляков — таков главный лейтмотив произведений писателя с Вологодчины.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.

Елена Чижова – автор романов «Время женщин», премия «РУССКИЙ БУКЕР», «Орест и сын», «Терракотовая старуха», «Лавра», «Крошки Цахес», «Полукровка».Как гриб не растет без грибницы, так и человек вырастает из прошлого: страны, города, семьи. Но что делать, если связь с родительским домом принимает болезненные формы? Не лучше ли ее разорвать, тем самым изменив свою жизнь?В новой книге «Планета грибов» главные герои – он и она, мужчина и женщина. Переводчик, погрязший в рутинной работе, и удачливая бизнес-леди.

Елена Чижова – прозаик, автор многих книг, среди которых «Время женщин» (премия «Русский Букер»), «Город, написанный по памяти», «Терракотовая старуха», «Орест и сын», «Китаист». «Повелитель вещей» – новый роман. Санкт-Петербург, март 201… года. Анна, бывшая школьная учительница, надеется, что вслед за кардинальными переменами в стране изменится и ее собственная жизнь. Маленький мир, в котором, помимо Анны, живут ее домашние: мать, владелица богатой коллекции антиквариата, и сын, начинающий гейм-дизайнер, создающий Великую Игру, – действительно изменится.
