Горькие лимоны - [102]
Но сперва нужно было соблюсти — и неукоснительно — ритуал гостеприимства. Он отпер калитку и провел нас в маленькую крытую галерею с какими-то фантастическими пальмами, где переговаривалась между собой вполголоса парочка павлинов, и, расставив стулья, налил нам по стакану шербета — в греческом названии которого до сих пор слышен отзвук имени Афродиты: "афрос" или, попросту, "пена". Мы выпили шербет, потом состоялся положенный обмен любезностями, а потом я сказал Паносу, что пойду искупаюсь, пока он будет проводить инспекцию.
— Я знаю, что вода холодная, — сказал я, — но через несколько дней мне уезжать. Не лишай меня этой радости.
Панос усмехнулся.
— Так радости или пытки?
— А одно без другого бывает?
— Хорошо сказал.
Грек не в силах устоять против афоризма; одна лишь форма уже заставляет его уверовать в истинность высказывания, даже если по сути оно ложно.
— Хорошо сказал, — повторил он. — Ну что ж, а я тогда отправлюсь с Янисом.
Старик опять вскочил и поклонился.
— С радостью. С радостью.
Когда они ушли смотреть свои деревья, я немного помедлил на тихой террасе, наслаждаясь отдаленным гулом моря с наветренной стороны и думая о том, какое же славное это будет место, "Фортуна", когда уйдет политика и унесет с собой свои порождения — жестокость и неотвязное чувство тревоги. Янис открыл те комнаты, в которых жила Мари, и я без всякой задней мысли зашел внутрь, подивился тому, как быстро покрылись пылью книжные полки, и окинул взглядом знакомые сокровища, которые в один прекрасный день займут свои места в особняке: испанский сундук, мавританскую решетку, индийские картинки и всякие безделушки, египетские и турецкие светильники и наваленные повсюду книги, преданные наперсники одиночества, не вынужденного, но желанного. Зеркальце и гребень с Бали, терракотовая фигурка из Танагры, железная статуэтка Кришны, нарисованная гуашью мандала — все эти вещи умудрились как-то зацепиться за подол Мари во время ее очередного стремительного кругосветного турне и собрались здесь, чтобы обрести покой в прохладных комнатах ее будущего дома. Те самые вещи, которые писатель повсюду таскает с собой, как талисманы, как напоминания о пережитом и забытом, о том, что в один прекрасный день он может воскресить и облечь в слова. Эта вот танцовщица с Бали стоит на страже прошлого столь же чутко, как морская раковина, когда ее приложишь к уху… С моря пришел ветерок и тронул занавески на окнах, напомнив мне о том, что я пообещал себе принять морскую ванну.
Следуя обычной манере Мари, я взял с полки книгу, хотя и знал, что читать не стану, затем извлек взятые с собою плавки. Дорога к ее частному пляжу вела через маленький естественный амфитеатр к стоявшей у самого моря длинной каменной стене — вдоль нее тянулись сплошные заросли мимозы, из-за которой вся эта высаженная для защиты от ветра лесополоса выглядела взъерошенной и нечесаной. Здесь стояла маленькая бамбуковая хижина, служившая разом и кабинкой для переодевания, и летней спальней. На бамбуковом лежаке дремала ящерица, похожая на греческого политика, прикорнувшего в ожидании открытия сессии. Пока я раздевался, на глаза мне попались пустая бутылка из-под кьянти, красный веер и пара пиал из бутылочной тыквы — свидетели счастливых, щедрых на радость вечеров два года назад; на табурете из пальмового спила лежали полосатое полотенце и "пингвиновская" история архитектуры, вся в трещинках и пятнах от соленой морской влаги. За ними встали имена: Пирс и Данте — отчетливей, чем если бы я проговорил их вслух. Пустая бутылка из под рислинга с масляным осадком на донышке сказала мне: Падди Ли Фермор (мы сидели здесь, пережидая оглушительную, свалившуюся на нас невесть откуда грозу, пили вино и натирали кожу маслом, чтобы не обгореть на солнце, которое обязательно возьмется за нас после грозы; дождь тем временем разносил в щепки крытую бамбуковыми планками крышу, а Падди пел протяжные, с переливами песни критских горцев, отмечая окончание каждого куплета глотком кьянти). Висит на гвоздике "бутылочка для слез"… И тут я спугнул ящерицу, которая удрала с лежанки и мигом оказалась на крыше.
На море ходили изрядных размеров валы, но в бухте вода была спокойна и набегала на берег невысокими покатыми "горками". Ветер дул с севера, а это означало, что главный удар стихии принял на себя западный мыс, и до лагуны после встречи с ним штормовая волна доходила на излете, растратив ударную мощь. Вода была по-весеннему холодной и обжигала, как обжигает горло глоток ледяного вина, и в этом была особая прелесть. Я отдался на волю течения, почти не шевеля руками и ногами, а только лишь удерживаясь на плаву, чтобы вода сама вынесла меня на середину бухты, откуда была видна вся ослепительная панорама здешних гор. Солнце окончательно очистило их, и они уже успели набрать тот мерцающий розовато-сиреневый оттенок, который прячется в самом сердце фиалкового цвета. Деревья отливали чистым серебром, а ломтики пшеничных полей приобрели желтизну лютика и сверкали, как стеклярус. Я дал течению отнести себя к маленькой мечети, которая сияла передо мной, как будто вырезанная из цельного куска самородной соли, разве что зимние дожди чуть подкрасили ее дюжиной серых и желтоватых тонов. Ходжа с кошкой на руках стоял и смотрел на меня с балкона — пятно сочного черного цвета, как вороново крыло. Я поднял руку и помахал ему, и он тут же махнул в ответ. Потом повернулся и пошел вниз по дорожке к воде, чтобы дождаться меня, пока я неспешно дрейфовал к изрытому и изъеденному морем выступу скалы, который не давал волне во время шторма бить в стены старенькой мечети в полную силу. Над подводной частью скалы как будто поработал некий могучий каменотес, вырезав в податливом известняке целый каскад ступеней, нисходящих до самого песчаного дна бухты, в трех фатомах

Четыре части романа-тетралогии «Александрийский квартет» не зря носят имена своих главных героев. Читатель может посмотреть на одни и те же события – жизнь египетской Александрии до и во время Второй мировой войны – глазами совершенно разных людей. Закат колониализма, антибританский бунт, политическая и частная жизнь – явления и люди становятся намного понятнее, когда можно увидеть их под разными углами. Сам автор называл тетралогию экспериментом по исследованию континуума и субъектно-объектных связей на материале современной любви. Текст данного издания был переработан переводчиком В.
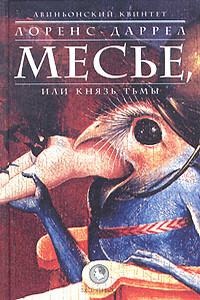
«Месье, или Князь Тьмы» (1974) — первая книга цикла «Авиньонский квинтет» признанного классика английской литературы ХХ-го столетия Лоренса Даррела, чье творчество в последние годы нашло своих многочисленных почитателей в России. Используя в своем ярком, живописном повествовании отдельные приемы и мотивы знаменитого «Александрийского квартета», автор, на это раз, переносит действие на юг Франции, в египетскую пустыню, в Венецию. Таинственное событие — неожиданная гибель одного из героев и все то, что ей предшествовало, истолковывается по-разному другими персонажами романа: врачом, историком, писателем.Так же как и прославленный «Александрийский квартет» это, по определению автора, «исследование любви в современном мире».Путешествуя со своими героями в пространстве и времени, Даррел создал поэтичные, увлекательные произведения.Сложные, переплетающиеся сюжеты завораживают читателя, заставляя его с волнением следить за развитием действия.
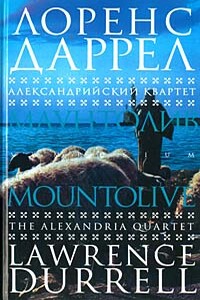
Дипломат, учитель, британский пресс-атташе и шпион в Александрии Египетской, старший брат писателя-анималиста Джеральда Даррелла, Лоренс Даррелл (1912—1990) стал всемирно известен после выхода в свет «Александрийского квартета», разделившего англоязычную критику на два лагеря: первые прочили автору славу нового Пруста, вторые видели в нем литературного шарлатана. Третий роман квартета, «Маунтолив» (1958) — это новый и вновь совершенно непредсказуемый взгляд на взаимоотношения уже знакомых персонажей.
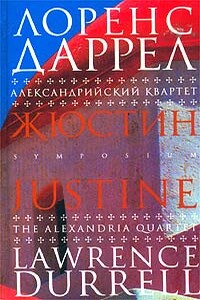
Дипломат, учитель, британский пресс-атташе и шпион в Александрии Египетской, старший брат писателя-анималиста Джеральда Даррела, Лоренс Даррел (1913-1990) стал всемирно известен после выхода в свет «Александрийского квартета», разделившего англоязычную критику на два лагеря: первые прочили автору славу нового Пруста, вторые видели в нем литературного шарлатана. Время расставило все на свои места.Первый роман квартета, «Жюстин» (1957), — это первый и необратимый шаг в лабиринт человеческих чувств, логики и неписаных, но неукоснительных законов бытия.
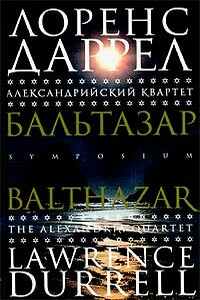
Дипломат, учитель, британский пресс-атташе и шпион в Александрии Египетской, старший брат писателя-анималиста Джеральда Даррела, Лоренс Даррел (1912-1990) стал всемирно известен после выхода в свет «Александрийского квартета», разделившего англоязычную критику на два лагеря: первые прочили автору славу нового Пруста, вторые видели в ней литературного шарлатана. Второй роман квартета — «Бальтазар» (1958) только подлил масла в огонь, разрушив у читателей и критиков впечатление, что они что-то поняли в «Жюстин».

В сборник входят новеллы современных английских писателей, посвященные молодежи: подросткам, молодым людям, вступающим в жизнь, — и тем далеко не простым социальным, нравственным и психологическим проблемам, с которыми им приходится сталкиваться. Противоречие между бескорыстием, чистотой помыслов и отношений и общечеловеческими идеалами, свойственными юности, законами и моралью буржуазного общества, стремящегося «отлить» молодежь по своему образу и подобию — главная тема большинства рассказов.

Андрей Виноградов – признанный мастер тонкой психологической прозы. Известный журналист, создатель Фонда эффективной политики, политтехнолог, переводчик, он был председателем правления РИА «Новости», директором издательства журнала «Огонек», участвовал в становлении «Видео Интернешнл». Этот роман – череда рассказов, рождающихся будто матрешки, один из другого. Забавные, откровенно смешные, фантастические, печальные истории сплетаются в причудливый неповторимо-увлекательный узор. События эти близки каждому, потому что они – эхо нашей обыденной, но такой непредсказуемой фантастической жизни… Содержит нецензурную брань!

Это роман о потерянных людях — потерянных в своей нерешительности, запутавшихся в любви, в обстановке, в этой стране, где жизнь всё ещё вертится вокруг мёртвого завода.

Самое начало 90-х. Случайное знакомство на молодежной вечеринке оказывается встречей тех самых половинок. На страницах книги рассказывается о жизни героев на протяжении более двадцати лет. Книга о настоящей любви, верности и дружбе. Герои переживают счастливые моменты, огорчения, горе и радость. Все, как в реальной жизни…

Эзра Фолкнер верит, что каждого ожидает своя трагедия. И жизнь, какой бы заурядной она ни была, с того момента станет уникальной. Его собственная трагедия грянула, когда парню исполнилось семнадцать. Он был популярен в школе, успешен во всем и прекрасно играл в теннис. Но, возвращаясь с вечеринки, Эзра попал в автомобильную аварию. И все изменилось: его бросила любимая девушка, исчезли друзья, закончилась спортивная карьера. Похоже, что теория не работает – будущее не сулит ничего экстраординарного. А может, нечто необычное уже случилось, когда в класс вошла новенькая? С первого взгляда на нее стало ясно, что эта девушка заставит Эзру посмотреть на жизнь иначе.

Книга известного политика и дипломата Ю.А. Квицинского продолжает тему предательства, начатую в предыдущих произведениях: "Время и случай", "Иуды". Книга написана в жанре политического романа, герой которого - известный политический деятель, находясь в высших эшелонах власти, участвует в развале Советского Союза, предав свою страну, свой народ.

Книга построена на воспоминаниях свидетелей и непосредственных участников борьбы белорусского народа за освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Передает не только фактуру всего, что происходило шестьдесят лет назад на нашей земле, но и настроения, чувства и мысли свидетелей и непосредственных участников борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, борьбы за освобождение родной земли от иностранного порабощения, за будущее детей, внуков и следующих за ними поколений нашего народа.