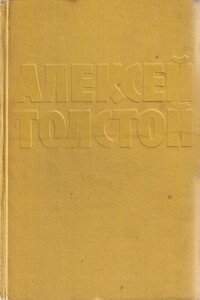Голубые города - [5]
«Вид у меня паршивый, конечно, больной, зубы не в порядке, раздумывал он в сумерках, — но разве это именно важно?.. Приятнее, если бы этакий молодчина ввалился в крепких сапогах, веселый, полон карман червонцев… Не было бы сразу разочарования… Ах, глупости, мелочи… К маю отъемся, зубы вылечу — вот вам, Надежда Ивановна, и вид. Зато ваши молодчики из кинематографа городов строить не будут — лобики узки».
Василий Алексеевич несколько раз пытался заговорить с Надей о своих работах, о перестройке Москвы по новому плану, о величии задач, брошенных в человечество русской революцией. Не было сомнения — Надя поймет, оценит его, и весь житейский вздор, безденежье покажутся ничтожными.
Надя не уклонялась от разговоров, но едва он занесется — у нее личико сделается озабоченное: «Ах, прости, Вася, совсем забыла… скоро приду…» И — нет ее, убежала со двора. И Буженинов опять сидит в темноте, старается привести мысли в порядок.
Однажды выручил дождь — хлынул потоком. Надя поахала у окна, вздула лампу, села штопать чулки. Особенно хороши были у нее глаза: голубые, покойные, с мягкими ресницами — темной каймой. Василий Алексеевич глядел в них, покуда не закружилась голова.
— Вот ты архитектор, Вася, скажи, — заговорила Надя, откусывая нитку на чулке, надетом на деревянную ложку, — неужели, правда, за границей в каждом доме ванная? Вчера в кинематографе видела — чудная фильма! Аста Нильсон каждый день берет ванную, моется. Правда ли это? Ведь соскучишься. — Она покачала головой, усмехнулась. — Со мной был один, — ты его не знаешь, бывший военнопленный, — так он рассказывал, будто в частных квартирах за границей все кровати под балдахинами. Вот выстрой такой дом в Москве. Прославишься. Хотя я что-то не верю. Я жизнь знаю по кинематографу. Конечно, артисты в кинематографе стараются показать себя в лучшем свете, а на самом деле все такие же, как у нас.
— Надя, — спросил Буженинов из темноты, с дивана, — скажи мне открыто, — это очень важно… понимаешь… ты любишь кого-нибудь?..
Надя подняла брови. Штопальная игла остановилась. Надя вздохнула, и снова потянулась нитка.
— Вот что я тебе скажу, Вася… Какое там — любовь. Прожить бы!.. Ох-хо-хо!.. Думаешь, выходят замуж оттого, что влюбились? Это только в кинематографе. Какая уж там любовь! Встретишь человека случайно, посмотришь: если чем-нибудь может улучшить твое положение — выбираешь его… Ко мне сватался один из Минска. Так мне захотелось в Минске побывать — все-таки столица. Там, говорят, магазины, трехэтажные дома на главной улице… Едва не согласилась. Ну, а выяснилось, что он просто проходимец, ни из какого не из Минска.
— Нет, Надя, нет, ты — комик, чудачка. Я тебя лучше знаю… Ты не можешь так говорить. У тебя это навеянное… Жизнь на самом деле прекрасна, увлекательна… Нужно строить, бороться, любить…
Буженинов проговорил до позднего часа, покуда хватило керосину в лампе. Надя слушала, откусывала нитки, опускала низко голову, улыбаясь. Прелесть молодой девушки, как весенний воздух, пьянила Василия Алексеевича. Заснул он, не раздеваясь, на диване, камнем провалился в сладкую темноту. А наутро выглянул в окно: сидит ворона, нахохлилась. Все тот же забор; серое небо; на дороге ржавое ведро валяется. Ничего не изменилось за эту ночь. И от вчерашних разговоров остались досада и недоумение.
БЫТ, НРАВЫ И ПРОЧЕЕ
Мелочи жизни, сами по себе не стоящие внимания, стали принимать болезненные размеры в сознании Василия Алексеевича. Вот почему мы предлагаем пробежать эти строки. Они уясняют многое.
В городе заинтересовались буженинихиным сыном. Пошли разные предположения. Конторщик Утевкин, говорят, даже побледнел, узнав о его приезде, и сказал более чем многозначительно:
— Ах, так… Ну, теперь мне многое понятно.
Когда сутулая фигура Василия Алексеевича появлялась в дневные часы на улице Карла Маркса, упиравшейся в торговую площадь, прохожие с ужасным любопытством оглядывали «академика». Даже милиционер благосклонно улыбался ему.
Однажды лавочник Пикус снял у дверей лавки защитного цвета картузик, попросил зайти и спросил контрреволюционным шепотом:
— Ну, скажите, что в Москве? Как нэп? Говорят — безнадежно? Ужасное время. Мы катимся в пропасть. Я дошел до такого нервного расстройства, что по ночам кричу благим матом. Ну, очень рад познакомиться. А Надежда Ивановна вас таки заждалась.
Пикус намекнул на то, о чем говорили по городу. В провинции не любят непонятного, причиняющего беспокойство фантазии. Действительно, за каким дьяволом было Буженинову тащиться в это захолустье? Ясное дело — приехал жениться. Но тут оказывались разные «ямки-канавки»: Буженинов разлетелся не на совсем свободное место, — так по крайней мере посмеивались.
В магазине у Пикуса с ним познакомился Сашок — румяный молодой человек в поддевке и плюшевом картузе, сын хлебного оптовика Жигалева. Стал расспрашивать о столице, о лекциях и кабаре, о женщинах с Кузнецкого и завел Василия Алексеевича в пивную «Ренессанс», во втором этаже, на площади.
Угощая папиросами, Сашок щурил смехом карие глаза, — плотный, смелый, со сросшимися бровями:
— Между прочим, Надежда Ивановна девушка что надо. Заносится только зря. В наше время чересчур о себе много думать не приходится. Так-то, Василий Алексеевич. Новый быт идет, как говорится. Конечно, с ее внешностью — в Москву, на сцену или машинисткой в крупный трест, — карьеру сделать можно. Но здесь…

Библиотека проекта «История Российского государства» – это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники мировой литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее истоков.«Петр Первый» А.Н. Толстого – лучший образец жанра исторического романа. Эпоха Петра волнует воображение уже более трех веков. Толстого увлекло ощущение творческой силы того времени, в которой с необыкновенной яркостью раскрывается характер выдающегося правителя огромной страны, могучей, многогранной личности, русского императора Петра Первого.
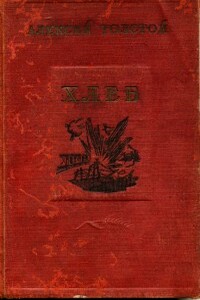
По замыслу автора повесть «Хлеб» является связующим звеном между романами «Восемнадцатый год» и «Хмурое утро». Повесть посвящена важнейшему этапу в истории гражданской войны — обороне Царицына под руководством товарища Сталина. Этот момент не показан в романе «Восемнадцатый год».
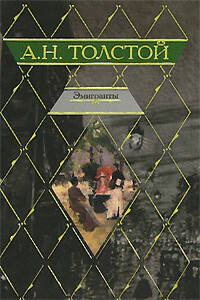
Трагическая и противоречивая картина жизни представителей белой эмиграции изображается в замечательной повести Алексея Толстого «Эмигранты», захватывающий детективно-авантюрный сюжет которой сочетается с почти документальным отражением событий европейской истории первой половины XX века.
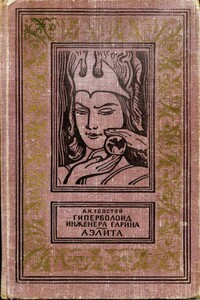
Это — пожалуй, первая из российских книг, в которой элементы научно-фантастические и элементы приключенческие переплетены так тесно, что, разделить их уже невозможно. Это — «Гиперболоид инженера Гарина». Книга, от которой не могли и не могут оторваться юные читатели нашей страны вот уже много десятилетий! Потому что вечная история гениального учёного, возмечтавшего о мировом господстве, и горстки смельчаков, вступающих в схватку с этим «злым гением», по-прежнему остаётся увлекательной и талантливой!..
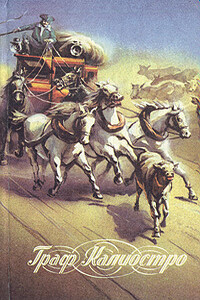
«Уно, уно уно уно моменто…» несется сегодня с телеэкранов и мобильных телефонов. Но не все знают, что великолепный фильм «Формула любви» Марка Захарова был снят по мотивам этой повести Алексея Толстого. Итак, в поместье в Смоленской глуши, «благодаря» сломавшейся карете попадает маг и чудесник, граф Калиостро, переполошивший своими колдовскими умениями всю столицу и наделавший при дворе немало шуму. Молодой хозяин усадьбы грезит о девушке со старинного портрета и только таинственный иностранец может помочь ему воплотить мечты в реальность…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящее собрание сочинений А. Блока в восьми томах является наиболее полным из всех ранее выходивших. Задача его — представить все разделы обширного литературного наследия поэта, — не только его художественные произведения (лирику, поэмы, драматургию), но также литературную критику и публицистику, дневники и записные книжки, письма.В восьмой том собрания сочинений вошли письма 1898-1921 годов.http://ruslit.traumlibrary.net.

В шестой том собрания сочинений вошли прозаические произведения 1916–1919., пьесы и статьи.Комментарии Ю. Чирвы и В. Чувакова.http://ruslit.traumlibrary.net.

Максим Горький описывает, с обычным своим искусством и жизненностью, уличную сутолоку больших городов – Берлина, Парижа, Нью-Йорка и др.

Это средняя часть трилогии «Творимая легенда», русского писателя Фёдора Сологуба.«Королева Ортруда», рассказывает о жизни королевы Балеарских островов. Здесь средневековая сказочность повествования прерывается грубыми голосами современной жизни.Томления королевы Ортруды достигают всемирно-чувствующего сердца Триродова…
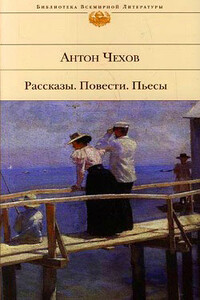
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.