Голова Брана - [3]
Лунный свет щедро полил зеркала коридоров, растворяя следы пребывания этих двоих. Лунный свет заглянул в самые что ни на есть маленькие и малюсенькие щели, тщательно заливая их желтизной, чтобы желтизна нигде не смогла просочиться обратно. Загримированная тишина загремела цепями. Последнее «да» Алексея Федоровича защелкнулось, как поворот ключа… И, как предвестник, из бельевой темной комнаты траурно выплыла Анна.
– Кто это был? – спросила она, зевая.
– Да так, никто, – повернулся Алексей Федорович спиной.
Через час они стали ужинать – медленно и тщательно пережевывали пищу, отправляя ее в тела.
Ровно в десять Алексей Федорович из-за стола встал и скоропостижно стал одевать ботинки.
– Куда ты? – спросила, сонно отрыгивая, Анна.
– Пройтись, сестра моя.
– А почему сестра?
Черная улица встретила его синей лаской. Словно бы снова ненадолго вернулось лето и ненадолго вернулась таинственность, когда все еще в первый раз и нескладный порыв еще не завершен финалом, который всегда возвращает назад в своей заботливо отрицательной попытке. Так думал Алексей Федорович, пробираясь через деревья, перешагивая через исполинские стволы и отводя их мелкие ветви от своего лица, пока осторожно не вышел на гравий, хрустящий, как ночью на пляже, когда огромные, едва светящиеся волны, глубоко вздыхая, гулко обрушиваются и откатываются назад, сотрясая в темноте одинокий безвинный берег. Огромный, выше домов, которые были ему теперь лишь по колено, Алексей Федорович брел по дорожке, романтически улыбаясь:
«Теперь мне даже не надо спускаться в метро».
Да, отныне этот вход не вместит даже его огромную жизнетворную ногу. Молодость, смеясь, на огромной скорости обжигала ему лицо. И девчонка, с предвкушаемым страхом первого поцелуя высовывая из-за куста листьев свою безалаберную руку, шаловливо трепала копну его потрескивающих искрами волос. Алексей Федорович ощутил в себе силу белого корня, таящегося в темноте.
«Черт с ним, что его может съесть и свинья», – задорно подумал он, перешагивая через сруб казино и выходя на широко освещенный в разливе проспект.
Никто не узнал его и, несмотря на свою огромность, он по-прежнему продвигался инкогнито. Неузнанный характер, несмотря на всю свою прямизну, он все еще никак не мог быть разоблаченным, он все еще, несмотря на малую форму, не мог быть выдавленным из своей двусмысленной кожуры.
Так он и спустился в глубокий колодец, где переоделся, осторожно накладывая себе на лицо грим и подправляя брови черным, артистично-скрипичным карандашом. В глубине колодца, обвитого коричнево-чешуйчатым кабелем, в переданной ему вождем одежде он обрел свою тайну первого раза. Внизу, под его свежими сапогами герцога лежала та самая сонно запекшаяся жижа, изгнанная из низких, многоэтажных домов через специальные изогнутые коленца. Но это было уже не важно, жижа была уже не важна. Выпустив из рук своих свою прежнюю жизнь, Алексей Федорович смотрел, как она, разворачиваясь, уплывает в тоннель, как тонет в говне его кофта, как набухает и надувается пузырем пиджак, и только лишь ботинки, как две одинокие чистые лодочки, уплывают вдаль этой дантовой трубы, зеленеющей дыханием людских испражнений.
Из колодца Алексей Федорович поднялся по ступеням сверкающей лестницы. Чистая и безупречная роба теперь выдавала в нем молодца. Вождь сообщил ему тайное имя, чтобы он смог войти в тайное сообщество безнаказанно.
Революционеры вечеряли за огромным столом. Они разделили свою смерть на вчера, сегодня и завтра, и радовались жизни сейчас. Революционный веселый пир восставал из мрака обыденности. Революционная оргия сплетала обнаженные в своей радостности тела. Они пили за светлое братство, преломляющее в свете любви своей утопический идеал. Они пили за невозможное, за предвечный конец Кали-Юги, и свои наслаждения, щедро разбрасывая эрос смертельных ласк, посвящали грядущему времени. А длящуюся без конца современность просто намазывали на бутерброды и выбрасывали в широко освещенное окно на головы черных в черных масках агентов, терпеливо караулящих их деяние в недеянии. Но в глубине своей светлой бутербродной игры, революционеры все же оставались трагичны, ибо были воинами и знали, что любая война начинается, лишь когда нереальное становится реальным. И их вождь пытался мучительно угадать. Долгими ночами в полете над яствами, над брошенными тортами, над ненасилием ненависти вождь пытался найти эту реальность и угадать.
И однажды все наконец сошлось и все наконец встало, как в гороскопе, когда звезды танцуют назад, танцуя вперед, и в мимолетном выстраивании освобождают возможность, которая лишь кажется невозможностью.
«Лишь если, лишь если…» – вождь повторял, мучительно глядя на дверь.
Вождь был готов и он ждал, сжимая в объятиях четыреста ланей. Четыреста тысяч изумрудных коней были готовы сорваться с алмазных скрижалей. Четыреста миллионов темного человеческого вещества готово было зашевелиться в ночи и, смахивая со своих потолков засиженные черные люстры, было готово взглянуть туда, где должно было восстать новое солнце… Но было уже без двадцати, а Алексей Федорович все не шел и не шел. И революция никак не могла сдвинуться на циферблате вождя.

«Легкая, я научу тебя любить ветер, а сама исчезну как дым. Ты дашь мне деньги, а я их потрачу, а ты дашь еще. А я все буду курить и болтать ногой – кач, кач… Слушай, вот однажды был ветер, и он разносил семена желаний…».
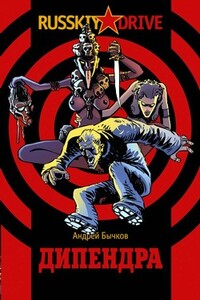
«Он взял кольцо, и с изнанки золото было нежное, потрогать языком и усмехнуться, несвобода должна быть золотой. Узкое холодное поперек языка… Кольцо купили в салоне. Новобрачный Алексей, новобрачная Анастасия. Фата, фата, фата, фата моргана, фиолетовая, газовая.».
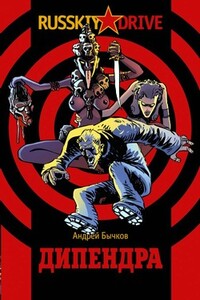
«А те-то были не дураки и знали, что если расскажут, как они летают, то им крышка. Потому как никто никому никогда не должен рассказывать своих снов. И они, хоть и пьяны были в дым, эти профессора, а все равно защита у них работала. А иначе как они могли бы стать профессорами-то без защиты?».
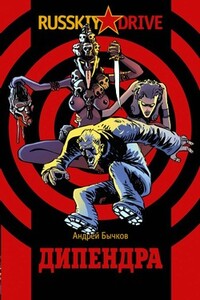
«Признаться, меня давно мучили все эти тайные вопросы жизни души, что для делового человека, наверное, покажется достаточно смешно и нелепо. Запутываясь, однако, все более и более и в своей судьбе, я стал раздумывать об этом все чаще.».

«Знаешь, в чем-то я подобна тебе. Так же, как и ты, я держу руки и ноги, когда сижу. Так же, как и ты, дышу. Так же, как и ты, я усмехаюсь, когда мне подают какой-то странный знак или начинают впаривать...».

«Еще вчера – белый собор Сан-Мишель, красный подиум, и два бронзовых пеликана, и бронзовый змей, обвивающий подсвечник; распятие было рядом, но он не мог себя заставить думать о Боге. Теперь он стоял в своей комнате. Солнце село. Звонить ей не было смысла: все было кончено еще в марте. Никто никого никогда не вернет.».

ББК 84. Р7 84(2Рос=Рус)6 П 58 В. Попов Запомните нас такими. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003. — 288 с. ISBN 5-94214-058-8 «Запомните нас такими» — это улыбка шириной в сорок лет. Известный петербургский прозаик, мастер гротеска, Валерий Попов, начинает свои веселые мемуары с воспоминаний о встречах с друзьями-гениями в начале шестидесятых, затем идут едкие байки о монстрах застоя, и заканчивает он убийственным эссе об идолах современности. Любимый прием Попова — гротеск: превращение ужасного в смешное. Книга так же включает повесть «Свободное плавание» — о некоторых забавных странностях петербургской жизни. Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Администрации Санкт-Петербурга © Валерий Попов, 2003 © Издательство журнала «Звезда», 2003 © Сергей Шараев, худож.

ББК 84.Р7 П 57 Оформление художника С. Шикина Попов В. Г. Разбойница: / Роман. Оформление С. Шикина. — М.: Вагриус, СПб.: Лань, 1996. — 236 с. Валерий Попов — один из самых точных и смешных писателей современной России. газета «Новое русское слово», Нью-Йорк Книгами Валерия Попова угощают самых любимых друзей, как лакомым блюдом. «Как, вы еще не читали? Вас ждет огромное удовольствие!»журнал «Синтаксис», Париж Проницательность у него дьявольская. По остроте зрения Попов — чемпион.Лев Аннинский «Локти и крылья» ISBN 5-86617-024-8 © В.

ББК 84.Р7 П 58 Художник Эвелина Соловьева Попов В. Две поездки в Москву: Повести, рассказы. — Л.: Сов. писатель, 1985. — 480 с. Повести и рассказы ленинградского прозаика Валерия Попова затрагивают важные социально-нравственные проблемы. Героям В. Попова свойственна острая наблюдательность, жизнеутверждающий юмор, активное, творческое восприятие окружающего мира. © Издательство «Советский писатель», 1985 г.

Две неразлучные подруги Ханна и Эмори знают, что их дома разделяют всего тридцать шесть шагов. Семнадцать лет они все делали вместе: устраивали чаепития для плюшевых игрушек, смотрели на звезды, обсуждали музыку, книжки, мальчишек. Но они не знали, что незадолго до окончания школы их дружбе наступит конец и с этого момента все в жизни пойдет наперекосяк. А тут еще отец Ханны потратил все деньги, отложенные на учебу в университете, и теперь она пропустит целый год. И Эмори ждут нелегкие времена, ведь ей предстоит переехать в другой город и расстаться с парнем.

«Узники Птичьей башни» - роман о той Японии, куда простому туристу не попасть. Один день из жизни большой японской корпорации глазами иностранки. Кира живёт и работает в Японии. Каждое утро она едет в Синдзюку, деловой район Токио, где высятся скалы из стекла и бетона. Кира признаётся, через что ей довелось пройти в Птичьей башне, развенчивает миф за мифом и делится ошеломляющими открытиями. Примет ли героиня чужие правила игры или останется верной себе? Книга содержит нецензурную брань.

В жизни каждого человека встречаются люди, которые навсегда оставляют отпечаток в его памяти своими поступками, и о них хочется написать. Одни становятся друзьями, другие просто знакомыми. А если ты еще половину жизни отдал Флоту, то тебе она будет близка и понятна. Эта книга о таких людях и о забавных случаях, произошедших с ними. Да и сам автор расскажет о своих приключениях. Вся книга основана на реальных событиях. Имена и фамилии действующих героев изменены.
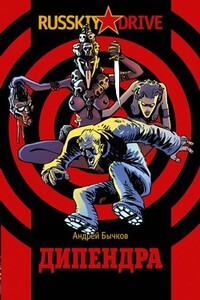
«Захотелось жить легко, крутить педали беспечного велосипеда, купаться, загорать, распластавшись под солнцем магическим крестом, изредка приподнимая голову и поглядывая, как пляжницы играют в волейбол. Вот одна подпрыгнула и, изогнувшись, звонко ударила по мячу, а другая присела, отбивая, и не удержавшись, упала всей попой на песок. Но до лета было еще далеко.».

«...и стал подклеивать другой, что-то там про байдарку, но все вместе, подставленное одно к другому, получалось довольно нелепо, если не сказать – дико, разные ритмы, разные скорости и краски, второй образ более дробный, узкий и выплывающий, а первый – про женщину – статичный, объемный, и на фоне второго, несмотря на свою стереоскопичность, все же слишком громоздкий.».
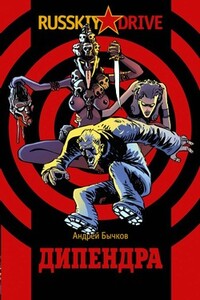
«Так он и лежал в одном ботинке на кровати, так он и кричал: „Не хочу больше здесь жить! Лежать не хочу, стоять, сидеть! Есть не хочу! Работать-то уж и тем более! В гости не хочу ходить! Надоело все, оскомину набило! Одно и то же, одно и то же…“ А ему надо было всего-то навсего надеть второй носок и поверх свой старый ботинок и отправиться в гости к Пуринштейну, чтобы продолжить разговор о структуре, о том, как вставляться в структуру, как находить в ней пустые места и незаметно прорастать оттуда кристаллами, транслирующими порядок своей и только своей индивидуальности.».
