Голос блокадного Ленинграда - [46]
1940
" На собранье целый день сидела — "
<1948–1949 гг.>
ПУСТЬ ГОЛОСУЮТ ДЕТИ
1949
[ТРИПТИХ 1949 ГОДА]
1
2
Осень 1949
3

Ольгу Берггольц называли «ленинградской Мадонной», она была «голосом Города» почти все девятьсот блокадных дней. «В истории Ленинградской эпопеи она стала символом, воплощением героизма блокадной трагедии. Ее чтили, как чтут блаженных, святых» (Д. Гранин). По дневникам, прозе и стихам О. Берггольц, проследив перипетии судьбы поэта, можно понять, что происходило с нашей страной в довоенные, военные и послевоенные годы.Берггольц — поэт огромной лирической и гражданской силы. Своей судьбой она дает невероятный пример патриотизма — понятия, так дискредитированного в наше время.К столетию поэта издательство «Азбука» подготовило книгу «Ольга.

Выпуск роман-газеты посвящён 25-летию Победы. Сборник содержит рассказы писателей СССР, посвящённых событиям Великой Отечественной войны — на фронте и в тылу.

Михаил Светлов стал легендарным еще при жизни – не только поэтом, написавшим «Гренаду» и «Каховку», но и человеком: его шутки и афоризмы передавались из уст в уста. О встречах с ним, о его поступках рассказывали друг другу. У него было множество друзей – старых и молодых. Среди них были люди самых различных профессий – писатели и художники, актеры и военные. Светлов всегда жил одной жизнью со своей страной, разделял с ней радость и горе. Страницы воспоминаний о нем доносят до читателя дыхание гражданской войны, незабываемые двадцатые годы, тревоги дней войны Отечественной, отзвуки послевоенной эпохи.
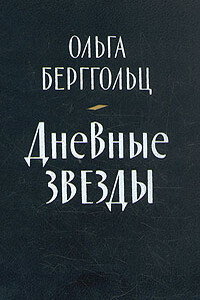
Автор: В одну из очень холодных январских ночей сорок второго года – кажется на третий день после того, как радио перестало работать почти во всех районах Ленинграда, – в радиокомитете, в общежитии литературного отдела была задумана книга «Говорит Ленинград». …Книга «Говорит Ленинград» не была составлена. Вместо нее к годовщине разгрома немцев под Ленинградом в 1945 году был создан радиофильм «Девятьсот дней» – фильм, где нет изображения, но есть только звук, и звук этот достигает временами почти зрительной силы… …Я сказала, что радиофильм «Девятьсот дней» создан вместо книги «Говорит Ленинград», – я неправильно сказала.

Ольга Берггольц (1910–1975) – тонкий лирик и поэт гражданского темперамента, широко известная знаменитыми стихотворениями, созданными ею в блокадном Ленинграде. Ранние стихотворения проникнуты светлым жизнеутверждающим началом, искренностью, любовью к жизни. В годы репрессий, в конце 30-х, оказалась по ложному обвинению в тюрьме. Этот страшный период отражен в тюремных стихотворениях, вошедших в этот сборник. Невероятная поэтическая сила О. Берггольц проявилась в период тяжелейших испытаний, выпавших на долю народа, страны, – во время Великой Отечественной войны.
