Голодный золотой божок - [11]
Вызвав удивление Аэрона Сохо, Дорсети хохотнул.
— Почему, ну почему вы все мне об этом говорите? — спросил он.
Кинжал с его пояса еще в кабинете перекочевал в рукав туники. Сохо слишком поздно заметил пустые ножны — холодная сталь уже перерезала ему глотку.
Угасающим взором он видел, как его убийца прохаживается возле, жестикулируя, словно актер перед публикой, и слышал сквозь шум приближающейся смерти следующий короткий монолог:
— Судьба непредсказуема! Только что ты был страшным, почти всесильным и крайне самоуверенным — и вот лежишь на полу, хрипишь, из тебя течет кровь на дорогой ковер, а через терцию ты вообще превратишься в кусок падали. Не правда ли, странно устроена наша жизнь?..
Потом Дорсети выронил кинжал, нашарил под туникой серебряный свисток, висевший на цепочке через шею, и пронзительно засвистел. Личная гвардия дома сбежалась, бряцая оружием. Увидев зарезанного, наемники переглянулись в немом изумлении.
— Этот человек убил моего отца! — произнес Дорсети. — Я настиг его и отомстил своею рукой.
— Послать за городской стражей? — спросил старший охранник.
Утром. Пока перенесите ублюдка в комнату для игры в шахматы. Там — отец… Я хочу, чтобы он знал — я отомстил.
Старший охранник поклонился с глубоким почтением. Аэрона Сохо уволокли за ноги. В блеске масляных ламп кровавые следы были похожи на капли сургуча.
— А ведь я нищий! — объявил себе Дорсети. — Не значит ли это, что мне пора действовать? Право, это так непривычно, так неожиданно…
Тетка тоже не вечная, рано или поздно я верну отцовские деньги. А до тех пор обзаведусь своими. Тра-ла-ла! — запел он и, приплясывая, направился к винтовой лестнице.
Спустившись по ней в подвал, Дорсети отпер отцовскими ключами толстую свинцовую дверь, поменял лампу на яркий факел и шагнул в темную духоту.
— Ремина, пора вставать! — заорал он. — Тра-ла-ла! Пришел конец твоему заточению. Что есть жизнь, — как не заточение в убогой клетке тела?
Девушка в одной рубахе из мешковины, спавшая в колодках у стены, проснулась. Испуг и недоумение отражались в ее лице, она всхлипывала, глядя, как Дорсети пляшет с факелом в руке и зажигает большие настенные светильники. Огонь больно ранил ее глаза, привыкшие к темноте.
В центре подвала возвышался алтарь, грубо вылепленный из глины-сырца, весь усыпанный золотыми слитками и драгоценными камнями. На нем стояла необыкновенно уродливая статуя, изображавшая толстого гладкого карлика, сидящего, скрестив вывернутые ноги. Статуя была золотая, но благородный металл весь покрылся черной липкой грязью. Только глаза и пасть блестели, отчего карлик выглядел еще гаже. В стороне от него стояла огромная печь с трубой, уходящей в потолок подвала. В печь был встроен большой котел, наполненный зеленоватой жидкостью. К его краям были припаяны два раздвижных кольца с зажимами.
Дорсети, весело ругаясь и бормоча, растапливал печь. Когда в трубе загудело, он выпрямился, вытер сажу на лице и подошел к пленнице. Сняв колодки с ее ног, он рывком поднял Ремину и, держа ее за руки, повел к печи.
— Ничего не говори! — шептал он ей в ухо. — Береги силы.
Она ничего не понимала, только страх все сильнее сжимал ее сердце.
К котлу вели каменные ступени. Ноги не слушались Ремину, и Дорсети втащил ее наверх почти волоком, заставил сесть внутри котла, погрузившись в зеленую жидкость по плечи. Жидкость оказалась тягучей и остро пахла.
Ремина сидела на самом дне, упираясь пятками в противоположную стенку. Дорсети зажал кисти ее рук в кольца, соскочил вниз и проговорил, кривляясь:
— Подожди чуть-чуть. Сейчас начнется самое интересное.
Жидкость была еще очень холодной, но стенки и дно котла быстро нагрелись и задрожали. Ремина вскрикнула и рванулась, но не смогла даже вскинуться.
— За что? Что я сделала! — простонала она.
— Ты виновата только в том, что у Маммония всегда хороший аппетит, — сказал Дорсети. — Кричи, если хочешь. Говорят, это облегчает страдания.
И Ремина закричала — но не от боли, а от ужаса. Она увидела статуэтку, которая больше не сидела на алтаре, а приплясывала вокруг котла, то и дело заглядывая внутрь.
Зонара прижалась к стене и затаила дыхание. Тень полностью скрывала ее.
Дом Дорсети, ярко освещенный со стороны фасада, остальными тремя сторонами вдавался в непроглядный мрак. Сразу за ним заканчивалась улица Менял и начинался пустырь Проклятых Судей. Прежде там была рыночная площадь, на которой время от времени сжигали магов, уличенных в преступлениях. Такой способ казни по применению к колдунам и колдуньям считался самым эффективным. Однажды, по приговору магистрата, там сожгли некую Оливию, которая, как говорили, никогда не занималась колдовством. На свое горе она понравилась человеку, служившему в городском суде, но отказала его притязаниям. Судейский не оставил ее в покое, всячески преследовал, предлагал дорогие подарки, а то и просто запугивал. Жених Оливии, тележный мастер, имени которого народная память не сохранила, здорово отдубасил ухажера.
На следующий день Оливию схватили. Ее обвинили в наведении на город демонов и после долгих пыток сожгли.
А через неделю после казни, в куче гнилых овощей нашли судейского. Он был на последнем издыхании, его распоротое брюхо неизвестный мститель набил червивой брюквой. Затем погибли все, причастные к смерти Оливии. Всех их — каждого в свое время — обнаружили поутру на площади. Умерли они разнообразно: кто был зарезан, кто удавлен, кто выжжен изнутри посредством раскаленного железного лома… Тележного мастера, конечно, приволокли в суд.

В пустыне Конан спасает жизнь лорду Риго. В свою очередь лорд просит варвара помочь ему отыскать «Жемчужину пустыни» — черную жемчужину размером с кулак. Конан соглашается видя шанс поживиться, однако не только они желают заполучить жемчужину…«Северо-Запад Пресс», «АСТ», 2004, том 96 «Конан и Тайна песков»Дуглас Брайан. Тайна песков (повесть), стр. 59-136.

…и снова Конан-Варвар отправляется в странствия, снова он принимает бой и снова выходит победителем.«Северо-Запад Пресс», «АСТ», 2007, том 134 «Конан и потомки атлантов»Дуглас Брайан. Красавица в зеркалах (повесть), стр. 170-382.
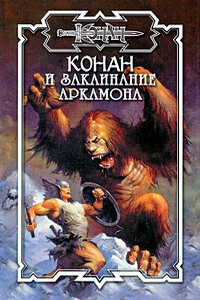
В одной из таверн Шадизара Конана нанимает древняя старуха, для того чтобы он нашел пропавшую при загадочных обстоятельствах девушку.
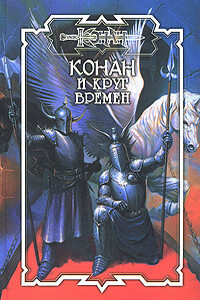
…В вендийском городке Рамбхе Конан встретил бритунийца Фридугиса. Фридугис прибыл в Вендию, чтобы найти заброшенный храм Кали и вернуть богине украденный оттуда около ста лет назад родственником Фридугиса алмаз, являвшийся глазом статуи Кали. После похищения камня проклятие богини лежало на семье похитителя. Конан решил сопровождать Фридугиса…
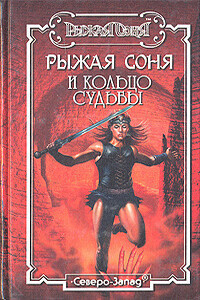
В джунглях Кешана Рыжая Соня набредает на стигийцев-работорговцев. Вступив в схватку, Соня освобождает молодую аквилонскую девушку. Но она ещё не знает, что аквилонка предназначалась в жертву Связанному Богу...

Перед вами вторая часть официальной новеллизации Death Stranding – самой нашумевшей и загадочной игры 2020 года, созданной легендарным Хидео Кодзимой. Книга прольет свет на многие тайны игры и поможет развязать запутанные сюжетные узлы. Таинственные взрывы сотрясли планету и вызвали серию сверхъестественных явлений – Выходов смерти. Невидимые существа, которые прорвались из мира мертвых, поглощают живых и провоцируют новые разрушительные взрывы, поэтому человечество находится на грани вымирания: государства пали, а выжившие вынуждены запереться в городах и убежищах и жить в изоляции. Сэму Портеру Бриджесу, легендарному курьеру, который способен возвращаться из мира мертвых, поручили ответственную миссию.

Красный Рыцарь сошелся в бою со всеми силами врага и одержал победу. Эту битву будут помнить в веках. Он сумел объединить разрозненные армии и народы против самого страшного противника. Но теперь помощь нужна ему еще сильнее, чем раньше. За спиной у одного врага стоял другой – и у него тоже есть союзники. Он хотел вовсе не уничтожить Альбу, а просто отвлечь королевство и скрыть свою настоящую цель. И что бы это ни было, оно точно не понравится Красному Рыцарю. Одна армия разбита, но Красный Рыцарь вынужден сражаться снова… и для каждого из его союзников найдется свой враг.

Элеонора, ведьма современного мира, но с примесью самых древних сил. Кощей, теневая магия, шумеры… Кто она такая? Хороший вопрос, на который она сама попытается найти ответ. И именно в этой книге в своих первых дневниках Нора начнёт свой путь, который будет записывать полностью. Насколько правильный дневник бы ни был, а путь лишь один. Это дневник от имени ведьмы в виде её рассказа воспоминаний – о том, что же с ней происходило. Всё происходит с начала учебного 2004 года, когда ей 20 лет и, на момент на третьем курсе после летней сессии в Новочеркасском Аграрном техникуме.

Он – Ангел Смерти. Я – ее провидица. Каждый из нас готов сражаться, чтобы изменить этот мир.У Эзлин особый дар: она способна предсказать смерть любого одним прикосновением. Но видения о собственной судьбе вызывают в ней невообразимый ужас. Девушке суждено погибнуть от руки безжалостного воина теней, рожденного убивать. Поступив на службу к молодому лорду, Эзлин встречает того, кого боялась всю жизнь и намеревалась уничтожить. Холодный и неприступный, Ангел Смерти подобрался к ней столь близко, что теперь ее жизнь висит на волоске.

Если вы уверены, что у вас все хорошо, не спешите радоваться, быть может, вы просто чего-то не заметили. Если вы легко манипулируете кем-то, подумайте, не поступают ли так же с вами. Если вы взяли на себя право перекраивать чужие судьбы, будьте готовы к такому же отношению. И… не торопитесь жаловаться. Содержит нецензурную брань.

Встречайте Пола, который вопреки здравому смыслу попал в ловушку в самом центре Королевской битвы! В 17 лет у Пола была только одна мечта: стать актером. Поэтому, когда ему предлагают небольшую роль в блокбастере, он хватается за этот шанс. Только кажется, что остров, на котором происходят съемки, не самый обычный… Между мини-штормами, летающими автобусами, разноцветными ламами и бешеными танцами Пол пытается понять, куда он попал! И почему некоторые люди более вооружены, чем другие, и не стесняются стрелять? Полу придется прятаться и уворачиваться от пуль, чтобы спасти свою шкуру и как можно скорее покинуть этот остров!
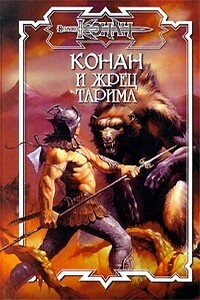
Спасаясь от преследующих его туранских войск, Конан укрывается в одном из оазисов пустыни лежащей меж Тураном и Шемом…Там и начинаются его новые, смертельно опасные приключения…

…Конан из Киммерии — дикой варварской страны, затерянной где-то на севере Хайбории, был чужаком в этом городе, обласканном солнцем и богами, разнеженном и развращенном от роскоши и лени. Поэтому он стал здесь вором, дерзким удачливым и неуловимым….Лучшим вором Шадизара…

Приключения Конана продолжаются.«Ищем, находим, перепродаем и опять крадем серебряную пчелку. Шадизар опять стоит на ушах…»(А. Мартьянов)

