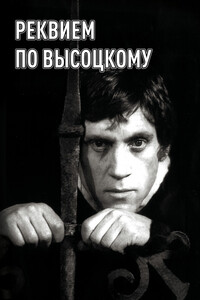И хотя победы он тут — увы! — не одерживает, сама попытка его заслуживает внимания и уважения.
Почти каждого, даже самого сложного писателя с возрастом, если постарению сопутствует не угасание творческих сил, а накопление души и разума, заворачивает к простоте. Ему хочется быть понятым, хочется все свое, узнанное, выношенное, выболенное, излить в других, в мир, который переживет его. Это и есть бессмертие, а не памятники и мемориальные доски. Надменной и упоенной юности во власти вдохновенного и темного бормота наплевать на доходчивость, на отзвук в чужом сердце, она слышит лишь собственное переполненное, сильно и гулко бьющееся сердце. Как непрогляден был ранний Пастернак и как прозрачен, родниково прозрачен стал он в последних песнях.
Но вообще-то разговор о простоте в искусстве совсем не так прост. Поздние стихи Мандельштама куда труднее для восприятия, нежели эллинский ясный «Камень» его начала. Но сам Мандельштам, без сомнения, воспринимал их иначе: как предельное сближение своей сути с сутью мироздания, как высшую, бесхитростную простоту, свободную от котурнов, от книжных, исторических и мифологических связей. Но не будем углубляться в дебри, ибо в нашем случае мы имеем дело с прямым и четким движением писателя к простоте.
К сожалению, Боб ден Ойл слишком заторопился в простоту, в обыденность, запрыгал длинными ногами даже не через две-три ступеньки, а через целые лестничные пролеты, но в этом нет большой беды, если иметь в виду судьбу писателя, а не мелочь частной неудачи.
Лев Толстой говорил когда-то о популярнейшем в ту пору И. Дружинине, авторе модного романа «Полинька Сакс», что не верит в него, поскольку Дружинин не способен отказаться от всего ранее написанного и начать сначала. Уж он-то, Толстой, знал о себе, что способен на это, хотя за плечами у него было нечто посерьезней «Полиньки Сакс». Вот эта столь ценимая Толстым способность писателя к обновлению присуща Бобу ден Ойлу. За маленькой книжечкой «Портреты» — смелый, широкий духовный жест. Трудно сказать, по какому пути пойдет Боб ден Ойл, но он идет, а не стоит на месте — вот что важно.
Я пишу это и вспоминаю идущего Боба, идущего в прямом, физическом смысле, по темной, секомой мелким, но напористым дождиком улице, сперва вровень, потом следом за машиной, увозящей меня с того роттердамского вечера. Машина то и дело притормаживает, лавируя среди людей, дружно окуполившихся черными глянцевыми зонтиками. У Боба нет зонтика, голова непокрыта, но он не обращает на это внимания. Он держит глазами машину, улыбается и слабо машет рукой. И я, опустив стекло, машу ему и улыбаюсь, но мне грустно. Грустно, что он сейчас станет воспоминанием, этот чистый, бескорыстный человек, ничего не выгадывающий у жизни, кроме литературы, кроме права теплить свою свечку, отдавать, ничего не ожидая взамен: ни денег, ни почестей, ни власти, ни славы. И я вспоминаю, что апостолы тоже не были ни гениями, ни тайными советниками, ни правителями, ни кавалерами орденов, а простыми людьми, рыбаками, и нравственная сила их — от бога.
Мы уже далеко, но долгая тень Боба, раскатанная по влажной мостовой фонарем, бежит за нами, бесконечно удлиняясь, слабея, редея, но не угасая совсем; пренебрегая углами и поворотами, она простирается за улицу, за Роттердам и, прозрачная, еле угадываемая, втягивается в мой сегодняшний день.