Гоголь как духовный писатель - [4]
Время, в котором протекает действие повести, поддается истолкованию с большей вероятностью. Из упоминания о том. что 4 октября приходится на среду, вытекает, что оно происходит в 1833 году[49], т.е. полностью соответствует описываемым политическим событиям. Дневник Поприщина в его «здравом» состоянии охватывает промежуток с 3 октября по 8 декабря. День его «окончательного помешательства» «датирован» «годом 2000-м апреля 43 числа». По обычной хронологии дату, таким образом, восстановить нельзя. Однако следующая запись («Мартобря 86 числа, между днем и ночью») относится ко дню, когда герой не был в департаменте «уже более трех недель» (208; вариант: «три недели»). Спрашивается, с какого дня Поприщин отказался от своего прежнего поприща и вступил на новое? Восьмого декабря он точно не был в департаменте. Пятого декабря он «все утро читал газеты». Однако в восемь утра (запись под 9 ноября: «в восемь часов отправился в департамент»; «я встал поутру довольно поздно», т.е. в десять часов — первая фраза повести) чиновнику уже полагалось быть на работе. Значит, Поприщин не был в департаменте начиная с восьмого декабря, но, может, и ранее — с пятого. С некоторым правдоподобием запись от «мартобря» может падать, таким образом, приблизительно на 25—29 декабря[50]. «День величайшего торжества», в который герой узнал, что он — король, остается неизвестным, но относится к промежутку предпразднества (неделя Святых праотец с 12 декабря), празднества и попразднества Рождества Христова. На этот же период могли приходиться, по нашей сомнительной гипотезе, и именины Авксентия. То, что Гоголь придавал значение не только именам (ср. вышеприведенные примеры, имя Акакия в «Шинели», фамилии [397] персонажей «Мертвых душ»), но и датам, доказывается отнесением (после многочисленных черновых и беловых вариантов) действия «Носа» к 25 марта (Благовещению)[51]. Не забудем и то, что праздник Рождества Христова (25 декабря) связан с поклонением волхвов Спасителю как Царю мира, и это обстоятельство могло натолкнуть Поприщина на мысль о своем державном владычестве (ср. цитированные выше слова Гоголя о монархе как об образе Божием на земле).
Начиная с «мартобря» (март + октябрь как третьи месяцы с начала и конца года?) время Поприщина бежит в обратном и абсурдном порядке (мартобря — отсутствие времени [«никоторого числа», «не помню», «было, чорт знает, что такое»] — числа 1-го — февруарий тридцатый— январь того же года, случившийся после февруария — число 25 [месяц не указан!]): от марта к январю. Тем не менее по «земному» времени 1-е число соответствует скорее всего началу 1834 года. По нашей гипотезе, 1834 год (дата окончания повести) присутствует в первой (Год 2000-й апреля 43 числа) и последней (Чи 34 cло Мц. гдао. Февраль [у Гоголя напечатано перевернуто!] 349 = 9 февраля 1834 года?) записях «сумасшедшего» Поприщина. К какому месяцу относится 25-е число (о его символике см. Приложение) перед последней, «перевернутой», записью, установить невозможно, однако не исключено (если следовать общей «алогичной логике» дат), что к декабрю, идущему за январем. В таком случае последовательность событий замкнулась, и все записи Поприщина после 8 декабря благодаря обратному течению времени могли относиться к одному физическому дню!
Итак, что же означает комбинация обратного течения времени, его отсутствия и начала нового гражданского года? Нам видится здесь единственная возможная интерпретация. Поприщин попадает во время апокалиптическое, выходящее за рамки земного, причем в период господства на земле антихриста (ибо в мире все перевернуто). О значении, какое придавал Гоголь 1834 году и в особенности цифрам, свидетельствует любопытная запись-молитва, которая так и называется «1834»:
«Пусть твои многоговорящие цифры, как неумолкающие часы, как совесть, стоят передо мною: чтобы каждая цифра твоя громче набата разила слух мой! чтобы она, как гальванический прут, производила судорожное потрясение во всем моем составе!» (ПСС IX, 17).
Здесь, после прочтения повести на духовном и политическом уровнях, мы подошли к третьему и наиболее сложному для истолкования пласту, условно названному нами эзотерическим. Тут мы в силах предложить не полный анализ, но лишь отдельные догадки о некоторых деталях повести. На этом уровне многие детали получают «сверхзначение», причем первичный смысл сохраняется наряду с его «иноуровневым» толкованием.
Прежде чем познакомить читателя с нашими гипотезами, необходимо сделать одну оговорку. Сейчас мы вступаем в весьма мало изученную область «эзотерического литературоведения», имеющую свои прецеденты на Западе[52], но совершенно нетронутую (отчасти по отсутствию соответствующего материала) в русской литературе. Единственным известным мне исключением является книга Л.Дж.Лейтона[53], хотя мы не согласны с многими выводами и самой концепцией автора. Поэтому просим читателя как о снисхождении к нашим предположениям, так и о неотвержении их сразу, «с порога».
[398] Повесть Гоголя пестрит непонятными фразами (особенно в рукописном варианте), которые, тем не менее, скрывают какой-то потаенный смысл, требующий чрезвычайных усилий и разысканий для своей расшифровки[54]. Среди множества таких фраз-сюжетов[55] мы смогли более или менее удовлетворительно, на наш взгляд, истолковать лишь две (помимо «Каспийского моря»), но и этого оказывается достаточным для выводов особой важности:
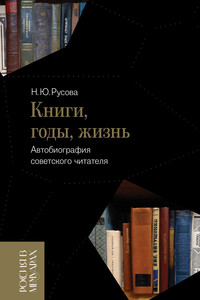
Как будет выглядеть автобиография советского интеллектуала, если поместить ее в концептуальные рамки читательской биографии? Автор этих мемуаров Н. Ю. Русова взялась поставить такой эксперимент и обратиться к личному прошлому, опираясь на прочитанные книги и вызванные ими впечатления. Знаток художественной литературы, она рассказывает о круге своего чтения, уделяя внимание филологическим и историческим деталям. В ее повествовании любимые стихи и проза оказываются не только тесно связаны с событиями личной или профессиональной жизни, но и погружены в политический и культурный контекст.
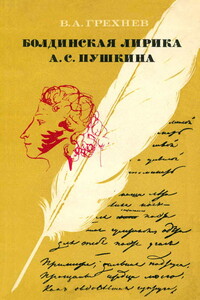
В книге дан развернутый анализ наиболее значительных лирических произведений болдинской поры. Найти новые подходы к пушкинскому тексту, подметить в нем художественные грани, ускользавшие из поля зрения исследователей, — такова задача, которую автор ставит перед собой. Книга адресована широкой аудитории любителей классической поэзии.
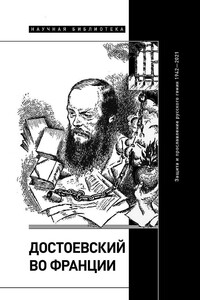
В монографии изложены материалы и исследования по истории восприятия жизни и творчества Ф. М. Достоевского (1821–1881) во французской интеллектуальной культуре, представленной здесь через литературоведение, психоанализ и философию. Хронологические рамки обусловлены конкретными литературными фактами: с одной стороны, именно в 1942 году в университете города Экс-ан-Прованс выпускник Первого кадетского корпуса в Петербурге Павел Николаевич Евдокимов защитил докторскую диссертацию «Достоевский и проблема зла», явившуюся одной из первых научных работ о Достоевском во Франции; с другой стороны, в юбилейном 2021 году почетный профессор Университета Кан — Нижняя Нормандия Мишель Никё выпустил в свет словарь-путеводитель «Достоевский», представляющий собой сумму французского достоеведения XX–XXI веков. В трехчастной композиции монографии выделены «Квазибиографические этюды», в которых рассмотрены труды и дни авторов наиболее значительных исследований о русском писателе, появившихся во Франции в 1942–2021 годах; «Компаративные эскизы», где фигура Достоевского рассматривается сквозь призму творческих и критических отражений, сохранившихся в сочинениях самых видных его французских читателей и актуализированных в трудах современных исследователей; «Тематические вариации», в которых ряд основных тем романов русского писателя разобран в свете новейших изысканий французских литературоведов, психоаналитиков и философов. Адресуется филологам и философам, специалистам по русской и зарубежным литературам, аспирантам, докторантам, студентам, словом, всем, кто неравнодушен к судьбам русского гения «во французской стороне».
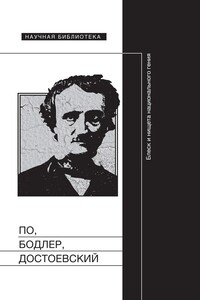
В коллективной монографии представлены труды участников I Международной конференции по компаративным исследованиям национальных культур «Эдгар По, Шарль Бодлер, Федор Достоевский и проблема национального гения: аналогии, генеалогии, филиации идей» (май 2013 г., факультет свободных искусств и наук СПбГУ). В работах литературоведов из Великобритании, России, США и Франции рассматриваются разнообразные темы и мотивы, объединяющие трех великих писателей разных народов: гений христианства и демоны национализма, огромный город и убогие углы, фланер-мечтатель и подпольный злопыхатель, вещие птицы и бедные люди, психопатии и социопатии и др.
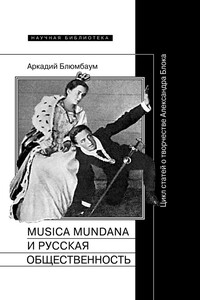
В центре внимания книги – идеологические контексты, актуальные для русского символизма в целом и для творчества Александра Блока в частности. Каким образом замкнутый в начале своего литературного пути на мистических переживаниях соловьевец Блок обращается к сфере «общественности», какие интеллектуальные ресурсы он для этого использует, как то, что начиналось в сфере мистики, закончилось политикой? Анализ нескольких конкретных текстов (пьеса «Незнакомка», поэма «Возмездие», речь «О романтизме» и т. д.), потребовавший от исследователя обращения к интеллектуальной истории, истории понятий и т. д., позволил автору книги реконструировать общий горизонт идеологических предпочтений Александра Блока, основания его полемической позиции по отношению к позитивистскому, либеральному, секулярному, «немузыкальному» «девятнадцатому веку», некрологом которому стало знаменитое блоковское эссе «Крушение гуманизма».
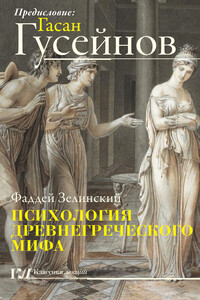
Выдающийся филолог конца XIX – начала XX Фаддей Францевич Зелинский вводит читателей в мир античной мифологии: сказания о богах и героях даны на фоне богатейшей картины жизни Древней Греции. Собранные под одной обложкой, они станут настольной книгой как для тех, кто только начинает приобщаться к культурной жизни древнего мира, так и для её ценителей. Свои комментарии к книге дает российский филолог, профессор Гасан Гусейнов.