Глаз разума - [3]
К 1995 году у Лилиан появились новые зрительные расстройства. Она заметила, что «упускает из виду» предметы, расположенные в поле зрения справа. После нескольких мелких дорожных происшествий ей пришлось отказаться от вождения автомобиля.
Иногда она задумывалась – не является ли ее расстройство скорее неврологической проблемой, нежели офтальмологической? «Каким образом получается, что на приеме у окулиста я вижу все буквы последней строчки, но не могу сложить эти буквы в слова?» Затем, в 1996 году, она стала допускать ошибки, приводившие ее в полное замешательство, – в частности перестала узнавать старых друзей. Все чаще ей на ум приходила написанная мной книга «Человек, который принял жену за шляпу» – о больном, который все отлично видел, но ничего не узнавал. Раньше Лилиан весело смеялась над этой книгой, но теперь стала задумываться, не страдает ли таким же недугом она сама.
Наконец, через пять лет после появления первых симптомов, ее направили в университетскую неврологическую клинику для полного обследования. Лилиан подвергли нейропсихологическому тестированию – на зрительное восприятие, память, беглость речи и т.д., – и выяснилось, что у больной сильнее всего пострадало распознавание рисунков: так, она назвала скрипку – банджо, перчатку – статуей, бритву – ручкой, а плоскогубцы – бананом. Ее попросили написать предложение, и она написала: «Это смехотворно». Временами у нее пропадала способность воспринимать предметы в правом поле зрения, а иногда возникали серьезные трудности с распознаванием лиц (эту способность определяли, предъявляя больной фотографии знаменитостей). Она могла читать, но только чрезвычайно медленно, буква за буквой. Лилиан, например, прочитывала «К», потом «О», потом «Т», а затем с трудом читала «кот», не воспринимая написанное слово как единое целое. Правда, если ей предъявляли слова слишком быстро для подробной расшифровки, она все же иногда правильно сортировала предметы по общим категориям, например, на одушевленные и неодушевленные (даже если не понимала их значения).
Вопреки этим тяжелым расстройствам зрительного восприятия ее слуховое восприятие, способность понимания и беглость речи остались совершенно нормальными. На МРТ1 головного мозга патологии не обнаружили, но на ПЭТ2 было выявлено небольшое нарушение обмена веществ в некоторых участках мозга при отсутствии заметных анатомических изменений. Было обнаружено, что у Лилиан снижена метаболическая активность в задних отделах головного мозга, в зрительной коре. Изменения эти были более выраженными слева. Отметив прогрессирующее нарушение восприятия, – сперва нотной грамоты, затем и зрительных образов, – лечащий врач предположил, что у Лилиан имеет место какое-то дегенеративное заболевание, ограниченное в настоящее время задними долями головного мозга. Вероятно, состояние больной будет постепенно ухудшаться, хотя и очень медленно.
Основное заболевание не поддается радикальному излечению, и невролог предложил больной придерживаться определенной лечебной тактики: например, «угадывать» слова, даже если она не может прочитать их обычным способом (ибо стало ясно, что больная обладает неким компенсаторным механизмом, позволяющим ей подсознательно угадывать слова). Больной также предложено было использовать зрительное исследование предметов, с тем чтобы сознательно фиксировать какие-то их особенности, а затем узнавать эти предметы по осознанно заученным признакам, несмотря на невозможность их «автоматического» распознавания.
Лилиан рассказала мне, что в течение трех лет, прошедших между неврологическим исследованием и ее визитом ко мне, она продолжала выступать, хотя и не так успешно и не так часто, как прежде. Репертуар ее сократился, так как она уже не могла читать ноты даже знакомых ей произведений. «Мне теперь нечем питать мою память. Питать зрительно», – сказала она. Кроме того, она отметила, что ее слуховая память, напротив, улучшилась, как и слуховая ориентация, и теперь она может заучивать и воспроизводить музыкальные пьесы на слух. Она не только может благодаря этому продолжать играть (иногда после единственного прослушивания), но и аранжировать произведение в уме. Тем не менее репертуар Лилиан сделался намного беднее, и она начала избегать публичных концертов. Теперь она предпочитает играть в неформальной обстановке и проводить мастер-классы фортепьянной игры.
Вручив мне заключение неврологического исследования 1996 года, она сказала:
– Все врачи говорят: «Задняя корковая атрофия в левом полушарии. Очень атипичная». Потом они виновато улыбаются и говорят, что ничего не могут сделать.
Осматривая Лилиан, я нашел, что у нее не было трудностей с определением цвета или формы, с восприятием движущихся предметов и глубины пространства. Однако в других отношениях поражения оказались весьма серьезными. Она перестала узнавать отдельные буквы и цифры (несмотря на то что без затруднений могла написать связное предложение). Зрительная агнозия зашла так далеко, что, когда я предъявил ей несколько рисунков, у больной возникли затруднения даже в распознавании рисунка как такового. Иногда она смотрела на подпись под рисунком или на белое поле, думая, что это и есть рисунок, о котором я ее расспрашивал. Об одной из фотографий она сказала: «Я вижу букву V, очень изящную, а здесь два маленьких кружочка, а вот тут – овал с белыми точками посередине. Я, правда, не знаю, что бы это могло быть». Когда я сказал, что это вертолет, Лилиан смущенно рассмеялась. (V – это ремень, с вертолета выгружали грузы для беженцев; два кружочка – это колеса, а овал – корпус вертолета.) Теперь Лилиан могла идентифицировать только отдельные фрагменты предметов, но была не способна к синтезу, к восприятию предмета как единого целого и начисто утратила способность интерпретировать изображения. При взгляде на фотографию человека Лилиан могла лишь сказать, что человек этот носит очки. Когда я спросил, ясно ли она видит, что здесь изображено, Лилиан ответила: «Изображение не смазано, просто я вижу какую-то кашу, состоящую из четких, резких, но совершенно непонятных форм и деталей».
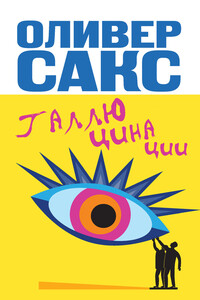
Галлюцинации. В Средние века их объясняли духовным просветлением или, напротив, одержимостью дьяволом. Десятки людей были объявлены святыми, тысячи – сгорели на кострах инквизиции.В наше время их принято считать признаком сумасшествия, тяжелой болезни или следствием приема наркотических средств. Но так ли это?Вы крепко спите в своей комнате и внезапно просыпаетесь от резкого звонка в дверь. Вскочив, вы подходите к двери, но там никого нет. «Наверное, показалось», – думаете вы, не догадываясь, что это была типичная галлюцинация.
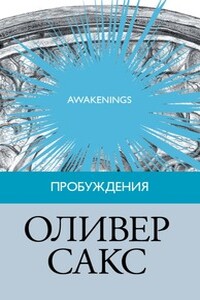
Книга, которая легла в основу одноименного знаменитого голливудского фильма с Робертом Де Ниро в главной роли! История, которая читается как хорошая фантастика, хотя в действительности в ней описана правда!
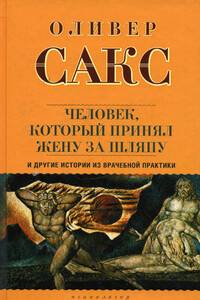
Оливер Сакс – известный британский невролог и нейропсихолог, автор ряда популярных книг, переведенных на двадцать языков, две из которых – «Человек, который принял жену за шляпу» и «Антрополог на Марсе» – стали международными бестселлерами.«Человек, который принял жену за шляпу» – книга, написанная Оливером Саксом еще в 1971 году и выдержавшая с тех пор около десяти переизданий только на английском языке, не говоря уже о многочисленных переводах, – это истории современных людей, пытающихся побороть серьезные и необычные нарушения психики и борющихся за выживание в условиях, совершенно невообразимых для здоровых людей, – и о мистиках прошлого, одержимых видениями, которые современная наука уверенно диагностирует как проявление тяжелых неврозов.
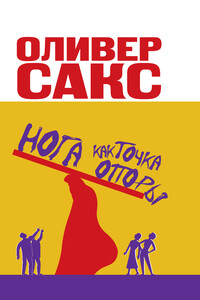
«Нога как точка опоры» – самое своеобразное из «клинических» произведений Сакса. Его необычность заключается в том, что известный ученый в результате несчастного случая сам оказывается в роли пациента.Однако автобиографическое произведение Оливера Сакса – не рутинная история заболевания и выздоровления, а живое, увлекательное и умное повествование о человеческих отношениях, физических, психологических и экзистенциальных аспектах болезни и борьбы с ней, и прежде всего – о физиологической составляющей человеческой личности.
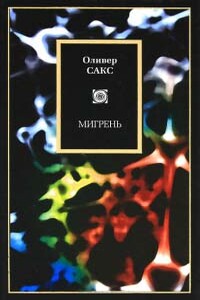
«Мигрень» – сборник «клинических» рассказов Сакса, описывающих реальные истории его пациентов. Наибольший интерес в них представляют не сугубо медицинские подробности (которых в сборнике на удивление мало), а собственные переживания пациентов – и совершенно новая концепция восприятия многих психических заболеваний, позволяющих их носителям, неизлечимым в определенной области, неожиданно раскрыть себя и добиться немалых успехов в областях иных.
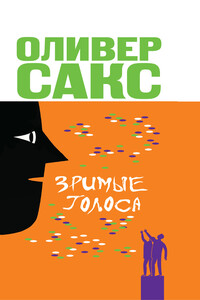
«Язык жестов» глухонемых.Что он собой представляет – пантомиму, более или менее удачно иллюстрирующую фонетическую речь? Или самостоятельный язык, обладающий собственной грамматикой и семантикой и ни в чем не уступающий устной речи?В работе «Зримые голоса» – одном из самых интересных своих произведений – Оливер Сакс выдвигает смелую и оригинальную теорию, согласно которой именно язык жестов – подлинный и первоначальный язык головного мозга.Однако главную ценность книги составляют реальные истории людей с ограниченными возможностями, не просто боровшихся за полноценную жизнь, но и победивших в этой борьбе!..
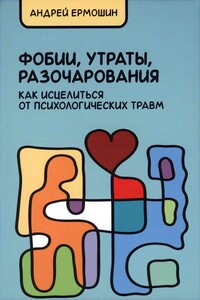
В третьем, переработанном и дополненном издании книги «Фобии, утраты, разочарования» известный врач-психотерапевт Андрей Ермошин в доступной форме рассказывает о методе, который позволил тысячам пациентов избавиться от последствий психологических травм. Книга снабжена подробными примерами излечения разнообразных фобий — от страха перед полетами до страха внезапной смерти, — а также успешной работы при переживаниях разочарования, предательства, измены, утраты близкого человека и др.Психокатализ, авторский метод Андрея Ермошина, основан на внимании к внутренним ощущениям человека.

В этой книге мы раскроем очень актуальную тему. Тема непростая, я расскажу о том, почему у многих женщин не складывается личная жизнь.В свое время и для меня эта тема была очень непростой. И в этой книге я озвучу все ключевые моменты этого вопроса.После прочтения этой книги у вас вскроются ваши внутренние препятствия, боли, блоки, но это не страшно. Ведь когда мы знаем врага в лицо, с ним легче бороться. Когда мы знаем, в чем состоит наша проблема, мы четко понимаем, что именно нам нужно решать.
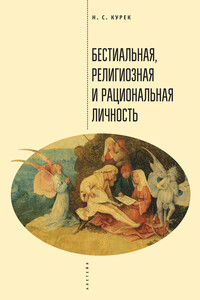
Книга посвящена изучению бестиального, религиозного и рационального типов личности. Проводится обзор основных подходов к ним. На основании авторской модели характеризуются особенности их ценностной ориентации, интеллекта, чувств, поведения. Описываются также смешанные типы. Типология иллюстрируется историческими и литературными примерами. Автор – доктор психологических наук Курек Николай Сергеевич. Книга предназначена для всех, интересующихся проблемами личности.

Вся информация представленная в данном курсе является лишь изложением личного жизненного опыта, знаний и мнения автора, курс не является «пособием к действию» и является не более чем информационным, познавательным продуктом. Не рекомендуется использовать нижеизложенную информацию в реальной жизни. Всё что ты почерпнешь из курса и используешь в жизни является твоей личной инициативой со всеми вытекающими последствиями.
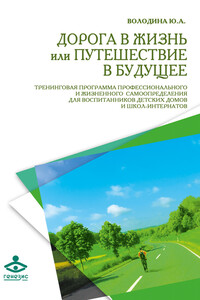
Курс «Дорога в жизнь, или Путешествие в будущее» ориентирован в первую очередь на подростков, обучающихся в школах-интернатах и живущих в детских домах, хотя может использоваться и в массовых школах. В пособии подробно описаны сценарии тренинговых занятий по профориентации с учениками 8–9 классов.Процесс вхождения ребенка-сироты во взрослую жизнь неразрывно связан с его самоопределением, как жизненным, так и профессиональным. Поэтому авторы создали тренинговый курс, который помог бы сформировать у подростков умения и навыки, необходимые для выбора профессии и жизненного пути в целом.
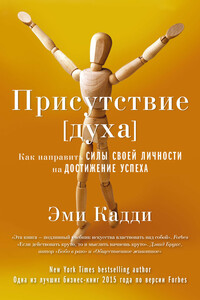
Эта книга о том, как перестать зависеть от чужого мнения и, оставаясь самим собой, владеть языком тела и сохранять уверенность в себе, что бы ни случилось. Она о том, как установить подлинную, глубокую связь с другими людьми, ощутить себя всесильным и начать радоваться жизни в полной мере.«Помните, что мы стремимся не к власти над другими, а к власти над собой, то есть свободе от чужой власти». Эми Кадди.