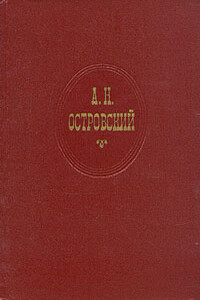Главный барин - [2]
— Ты бы, Македошка, шел домой, — предложил Сысой. — Только духу напустил своим винищем…
Вместо ответа Македошка хрипло засмеялся, а потом торопливо хлопнул стакан водки и проговорил:
— Баушка-то, значит, Домна… х-ха!.. Маланья, ты бы проведать ее сходила… Решилась баушка-то. Совсем как полоумная ходит. Верно…
— И то решилась… — ответила сердито Маланья, гремя ухватом. — Этакое счастье господь послал.
— Деньги куда-то спрятала, а сама все яйца считает… х-ха. А кто сруководствовал все дело? Все я, Македошка… На, получай, да не поминай лихом Македошку. Ах, братец ты мой…
— А Ермилку ты же научил? — спросил Сысой, оставляя работу.
— Ну, Ермилка-то другого поучит… Он, брат, сразу привесился. Шешнадцать целковых, и тому делу конец. Значит, два раза самовар наставляли, да вечером пермени сделали — только и всего. Новую лошадь, слышь, покупает на эти деньги… Вот он какой, Ермила-то!.. Ах, братец ты мой… А баушка Домна решилась ума, верно. Даве я заходил к ней, так она забилась в угол и от меня этак рукой: «Уйди, солдат! Уйди, грех!» Х-ха…
Македошка допил водку, еще раз с презрением посмотрел на меня, как-то фыркнул и, не простившись ни с кем, вышел из избы. Он был мертвецки пьян, хотя и держался еще на ногах. Видимо, он пил уже не первый день.
— Форсун… — сердито ворчала Маланья, когда дверь за солдатом затворилась. — Непутевая голова.
Сысой политично молчал. Очевидно, что случилось что-то и случилось очень важное, а Сысой был обстоятельный мужик и не любил болтать зря. Это был среднего роста плечистый мужик в полной поре… Я часто любовался этой живой мужицкой силой и какой-то особенной цельностью каждого слова и каждого движения. Охота для Сысоя служила только подспорьем, а по существу он был исправный, работящий мужик, что редко встречается между охотниками. Благообразная русая борода, карие умные глаза, степенные движения — все говорило в его пользу. И баба у него была славная. Все успевала сделать и мужа обряжала с деревенским достатком — все на Сысое было крепкое своей домашней крепостью. Я заметил, что в Грязнухе случилось что-то необычайное, что всех волновало и приводило в нервное настроение, особенно жену Сысоя. Спрашивать прямо я не хотел, потому что по-деревенски это было бы бестактностью.
— Поедем на охоту? — спросил я Сысоя.
— Поедем…
Он ответил неохотно, — видимо, ему было не до гусей. Признак был плохой.
Когда мы собирались выйти из избы, в окне показалась голова Македошки. Малашья даже вздрогнула. Солдатская рожа прильнула к оконному стеклу и хрипло хихикнула.
— Ах, братец ты мой… — бормотал он. — Сейчас был у баушки Домны… х-ха… То ли еще будет… Постой!..
Солдат даже погрозил кому-то кулаком. Когда мы с ружьями вышли на улицу, Македошка с гиканьем пронесся мимо нас на неоседланной лошади.
— Сбесился, крупа, — ворчал Сысой, вскидывая на плечо свое ружье.
II
До озера от Грязнухи было всего версты полторы. Мы свернули с дороги и шли тропой, пробитой по болоту в мелком «карандашнике», то есть мелкой болотной поросли из вербы, золотушной болотной березы-карлицы и ольхи. Сысой молчал. На низком песчаном мысу мы нашли лодку. Вода в озере была совсем темная, — рыбаки называют осеннюю воду тяжелой и уверяют, что именно поэтому осенью и не бывает крупной волны, как в Петровки, когда вода легкая. Когда мы уже садились в лодку, я обратил внимание на валявшиеся пустые жестянки из-под консервов.
— Кто-то приезжал на охоту? — попробовал я догадаться;
— Нет… нет… — уклончиво ответил Сысой, отпихивая лодку от берега. — Наезжали господа…
— Следователь?
— Нет… Как их назвать — не умею. Одним словом, чугунку нам хотят налаживать.
Для меня теперь сделалось ясно все, начиная с пьянства Македошки и кончая нервным настроением Маланьи. Сысой молча выгребал веслом. Лодка летела стрелой, делая судорожные движения при каждом взмахе. Мы перекосили озеро к дальним лавдам. От правого берега чинно отплыла чета лебедей с парой лебедят, — на Урале эту птицу не бьют, как не бьют голубей. Она еще пользуется привилегией заповедной птицы, которую убивать грешно. Где-то из ситников снялась утиная стая и со свистом пронеслась высоко над нашими головами.
— Птица грудиться стала… — объяснил Сысой. — Теперь молодых учат на отлет. Сильно теперь сторожатся.
Мы забрались в ситники, и скоро ничего не осталось, кроме двух зеленых стен по сторонам да неба над головой. Ситники в корне уже пожелтели, а жесткие зеленые листья шелестели как-то по-мертвому, как шелестит высохшая осенняя трава. Не было того зеленого живого шума, которым полон лес в летнюю пору. И вода тоже была мертвая и как-то по-мертвому расходилась жидкими морщинами, точно это были конвульсии.
Охота как-то не задалась. В двух местах гуси снялись раньше, чем мы их заметили, потом мое ружье сделало осечку, потом Сысой «промазал» по кряковой. Он только плюнул и бросил ружье в лодку. Что уже тут хлопотать, когда не везет. Внутренне я обвинял его в этих неудачах, потому что, видимо, он сегодня относился к делу с самым обидным индифферентизмом, а когда нет священного охотничьего жара, все равно ничего не выйдет. В результате оказались убитыми два несчастных чирка, одна кряковая утка и гагара — последнюю Сысой убил от злости, чтобы разрядить ружье.

Роман русского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка «Золото» (1892) о жизни золотоискателей Урала в пореформенный период.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Оборотничество, ликантропия, явления призраков из потустороннего мира, круговорот душ и диктат рока — таковы темы мистическо-фантастических произведений Поля Виолы, разворачивающихся на фоне странных «помещичьих гнезд» Полесья. Под псевдонимом «Поль Виола» (Paul Viola) в печати выступал киевский поэт, прозаик и переводчик П. Д. Пихно (1880–1919). Его рассказ «Волчица» и повесть «Мраморное поместье», вошедшие в настоящую книгу, переиздаются впервые.
![Тринадцать: Оккультные рассказы [Собрание рассказов. Том I]](/storage/book-covers/86/86c1d9f26f4e3d4c98834f70b0afbac3cb082a09.jpg)
В первом томе собрания рассказов рижской поэтессы, прозаика, журналистки и переводчицы Е. А. Магнусгофской (Кнауф, 1890–1939/42) полностью представлен сборник «Тринадцать: Оккультные рассказы» (1930). Все вошедшие в собрание произведения Е. А. Магнусгофской переиздаются впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
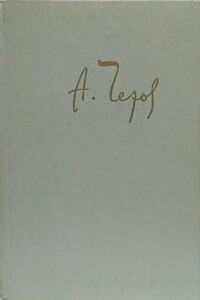
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.