Гипограмматика [заметки]
1
Ср.: «…в какой-то степени контекст можно определить как мотивацию элементов текста другими текстами того же корпуса (в отличие от подтекста – мотивации чужими текстами)» [Левинтон, Тименчик 2000: 409]; «Благодаря действию контекстуального механизма все наследие поэта образует единую сверхтекстовую структуру, где границы между отдельными произведениями не играют столь существенной роли. <…> В то же время подтекстуальный механизм стремится в эту структуру включить и тексты других авторов, осуществляя на практике акмеистическую идею “мирового поэтического текста”» [Золян, Лотман 2012: 325]. – Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, авторство цитат из этого совместного сборника статей принадлежит М. Ю. Лотману.
2
См. [Левинтон 1991: 38–39]. Ср. еще: «…город, городской миф, топографическое пространство представляются нам не столько эмпирической реальностью, непосредственно отражаемой стихами ОМ, сколько – текстами, которые этими стихами цитируются, текстами, в которых на равных правах сосуществуют географическое соседство и удаленность, историческая глубина, литературные ассоциации и сакральная репутация тех или иных топографических объектов (“реалий”)» [Левинтон 1998: 731]. За этим следует обобщение: «…представляется более убедительным и интересным уподобление реальности тексту, нежели поиски отражений “сырой”, не опосредованной текстом реальности в собственно словесных текстах» [Там же: 731–732]. Ср. в «Египетской марке»: «Всякая вещь мне кажется книгой. Где различие между книгой и вещью?» (II, 296), – а с другой стороны, ср. вслед за этим метафорическое присвоение книгам атрибута человеческой физиологии: «В корешках <…> дачных книг, то и дело забываемых на пляже, застревала золотая перхоть морского песку, как ее ни вытряхивать – она появлялась снова» (297). К преобладанию в творчестве Мандельштама поэтической семантики над узуальной см. [Тоддес 1986: 86], [Ханзен-Лёве 1998: 262]. О нетерпимости Мандельштама ко всякого рода пересказам см. [Левин 1998: 144–145]. О сращении исторической и языковой последовательностей см. [Ханзен-Лёве 2005: 311].
3
Ср., например, эпизод с организованной Мандельштамом в 1921 г. в Исаакиевском соборе панихидой по Пушкину в годовщину его смерти, засвидетельствованный Н. А. Павлович [ОиНМвВС 2001: 122] и А. И. Оношкович-Яцыной [1993: 402]. По резонному замечанию И. З. Сурат [2009: 34], «Мандельштам, конечно, знал о том, как Пушкин в годовщину смерти Байрона заказал панихиду “за упокой раба Божия боярина Георгия”» (как Пушкин сообщал в письме Вяземскому от 7 апреля 1825 г.).
4
Примеры. 1. В стихотворении «Твое чудесное произношенье…» (1918) описывается общение по телефону, который в тексте не назван, зато «введена переиначенная калька греческого tele phonos – “далеко прошелестело”» [Тименчик 1988: 159]. 2. При чтении строк «Я не услышу обращенный к рампе / Двойною рифмой оперенный стих <…>» («Я не увижу знаменитой “Федры”…», 1915) требуется «знать <…> о том, что актеры классического театра произносили свои монологи, обращаясь не к партнеру, а к публике, в зал (“к рампе”)» [Гинзбург 1997: 339]. 3. В «Феодосии» в словосочетании лисье электричество (II, 265) определение элеКТРичества фонетически, возможно, мотивировано отчеством сказочной Лисы – ПаТРиКеевна, а семантически – способами получения статического электричества: трением янтаря («илектра») о шерсть и особенно, как мне любезно подсказал К. Елисеев, ударами лисьим хвостом по смоляному кругу электрофора в рамках стандартного школьного опыта (на основе классического учебника физики К. Краевича [1880: 282–283]). 4. Отметим исключительный случай, когда Мандельштам неправильно понимает, но достоверно описывает бытовую реалию, и это описание препятствует ее программной семиотизации: в первой строке стихотворения «Золотистого меда струя из бутылки текла…» (1917) на самом деле изображен «бекмес – сгущенный виноградный сок, который действительно хранили в бутылках, потому что он не засахаривается» [Казарин и др. 2012]. Эта бытовая основа поэтического образа кажется более убедительной и интересной, чем программная отсылка к меду поэзии или, конкретнее, к словам Гумилева о том, что стих Кузмина «льется, как струя густого, душистого и сладкого меда» («Жизнь стиха», 1910; на статью Гумилева как подтекст указано в работе [Левинтон 1994: 42]).
5
Ср. хотя бы о строке «Спекторского» «Был разговор о принципах и принцах»: «…панславистский принцип, воплощенный в Гавриле Принципе, убил и этого “принца” и других» [Ронен 2012].
6
Примеры. 1. «По этому стихотворению, говорил О.М., нетрудно будет догадаться, что у него на морозе одышка: “Я – это я; явь – это явь”…» [Мандельштам Н. 2006: 400]. 2. «А. Ахматова <…> назвала рифмы «сигнальными звоночками», имея в виду звонок, который при печатанье на пишущей машинке отмечает конец строчки» [Лотман Ю. 1996: 97]. 3. В текстах Цветаевой, тематизирующих встречу Нового года, звук чокающихся бокалов с шампанским передан метаописательно – столкновением двух одинаковых слов: «Братья! В последний час / Года – за русский / Край наш, живущий в нас! / Ровно двенадцать раз / Кружкой о кружку!»; «Тесно – как клык об клык – / Кружкой о кружку» – и пр. («Новогодняя», 1922); «Под гулкими сводами / Бои: взгляд о взгляд, сталь об сталь. / То ночь новогодняя / Бьет хрусталем о хрусталь» («Новогодняя (вторая)», 1922); «Нет ни жизни, нет ни смерти, – третье, / Новое. И за него (соломой / Застелив седьмой – двадцать шестому / Отходящему – какое счастье / Тобой кончиться, тобой начаться!) / Через стол, необозримый оком, / Буду чокаться с тобою тихим чоком / Сткла о сткло?» («Новогоднее», 1927). 4. Вероятно, самым популярным объектом метатекстуальной имитации в модернистской поэзии были ритмы и шумы рельсового транспорта: трамвая (например, одна из учениц А. М. Пешковского попыталась связать «обилие взрывных звуков в “Заблудившемся трамвае” <…> с толчками трамвая» [Тименчик 1987: 143]), поезда (как, по наблюдению М. Безродного, в пастернаковском «Лейтенанте Шмидте», III, 2), подземки (как в «Читателях газет» Цветаевой). – О физической реальности как подтексте, отраженном в самой форме стиха, и об истоке этой идеи в насмешливом замечании Гейне см. [Тименчик 1986: 65–66].
7
Так, в очерке «Шуба» (1922) бытовые штрихи к портрету Шкловского подбираются с таким расчетом, чтобы соответствовать некоторым абстрактным положениям более ранней статьи того же года «О природе слова» [Тоддес 1986: 82].
8
Ср.: «Для того, чтобы понять значение элемента данного текста (в частности – одного слова в данном употреблении), нужно рассмотреть остальные его контексты. Это – одна из операциональных, рабочих реализаций теоретического представления об изменении значения слова (по сравнению с общеязыковым) в поэтическом тексте, в конечном счете – об “индивидуальной” лексической семантике поэтического текста и корпуса текстов» [Левинтон, Тименчик 2000: 409]; «Все творчество Мандельштама пронизано цепочками лексико-семантических повторов, связывающими произведения разных жанров и периодов, стихи и прозу, оригинальные сочинения и переводы, и создающими такую сеть межтекстовых связей, что представляется возможным и целесообразным рассматривать наследие Мандельштама как единую структуру. Расшифровка смысла многих “ключевых” лексико-семантических единиц в составных частях этой структуры невозможна без анализа их полного контекста, т. е. совокупности случаев данного словоупотребления у Мандельштама» [Ронен 2002: 19–20]. Ср. также в статье Тынянова «Промежуток»: «…главный пункт работы Мандельштама – создание особых смыслов. Его значения – кажущиеся, значения косвенные, которые могут возникать только в стихе, которые становятся обязательными только через стих. У него не слова, а тени слов» [Тынянов 1929: 572].
9
См. [Тарановский 2000: 32], [Левинтон, Тименчик 2000: 409–410].
10
Ср.: «…“контекст” есть понятие чисто операциональное, и при другом подходе можно было бы говорить о соотношении отдельных употреблений и о разных синтагматических реализациях одной парадигматической единицы» [Левинтон, Тименчик 2000: 415]. Типология автоцитатных приемов была разработана еще В. Ходасевичем на материале творчества Пушкина в серии статей, составивших книгу «Поэтическое хозяйство Пушкина» (1924) и ее сокращенный и переработанный вариант – книгу «О Пушкине» (1937).
11
Ср.: «К. Ф. Тарановский исходит из предположения (вернее сказать, акмеистического тезиса), что слова и другие значащие конструкции поэтического текста обладают своего рода “памятью” о своих предшествующих употреблениях как в поэтических текстах этого же автора, так и в предшествующей ему литературной традиции (таким образом, К. Ф. Тарановский обобщает традиционные понятия цитаты и автоцитаты). Контексты предшествующих употреблений некоторого слова, не присутствуя в тексте явным образом, могут быть для него актуальными и влиять на его семантическую интерпретацию (т. е. выступать по отношению к данному тексту в роли его подтекста)» [Золян, Лотман 2012: 130–131].
12
Ср.: «…прямое воспроизведение фрагмента чужого текста может фактически быть метонимическим цитированием другого отрезка этого же текста» [Тименчик 1975: 125]. И еще: «…для семантической интерпретации текста могут быть более актуальны как раз те фрагменты цитируемого текста, которые не представлены в нем в явном виде» [Золян, Лотман 2012: 319]; «…чтобы расшифровать сообщение, содержащееся в мандельштамовском тексте, часто бывает необходимым оперировать на уровне подтекста, в котором исследуемые элементы являются смежными <…>» [Ронен 2010а: 69–70]. Г. А. Левинтон [1977: 219] обозначил такую подтекстуальную связь как «метонимическую» (подробнее см. далее).
13
Пример. Печатная редакция «Сыновей Аймона» открывается описанием братьев, какими они предстают перед не узнающей их матерью («Пришли четыре брата, несхожие лицом, / В большой дворец-скворешник с высоким потолком. / Так сухи и поджары, что ворон им каркнет “брысь” <…>»), а заканчивается описанием тех же братьев, какими их застает не узнающий их отец («Плоть нищих золотится, как золото святых, / Бог выдубил их кожу и в мир пустил нагих. / Каленые орехи не так смуглы на вид, / Сукно, как паутина, на плечах у них висит – / Где родинка, где пятнышко – мережит и сквозит»). Эти описания Мандельштам не добавил от себя, однако, изменив местоположение и тон второго из них, он сделал их композиционно симметричными и этим придал повествовательную законченность переведенному фрагменту обширной поэмы [Михайлов 2000: 69–70]. В каждое из этих описаний Мандельштам ввел по одному элементу лексико-семантической пары (дворец-скворешник и орехи), которая в более раннем тексте стояла в рифменной позиции: «Где милая Троя? Где царский, где девичий дом? / Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник. / И падают стрелы сухим деревянным дождем, / И стрелы другие растут на земле, как орешник» («За то, что я руки твои не сумел удержать…», 1920). Дворец-скворешник не имеет эквивалента в старофранцузском тексте [Там же: 68]; его цитатность по отношению к Приамову скворешнику удостоверяется, во-первых, наличием общего признака (высокий / с высоким потолком; определение восходит к строке Анненского «Приама высокий чертог» из «Лаодамии», I, 2 [Левинтон 1977: 167]), а во-вторых, тем, что в обоих случаях речь идет не просто о дворце, но об отчем доме, утраченном вследствие его разрушения (в первом случае) или изгнания из него (во втором случае). Прецедентная рифмопара орешник – скворечник появляется опять-таки в контексте утраченной связи с отчим домом: «“Опять ушла от дела / Гулять родная дочь. / Опять не доглядела!” / И смотрит – смотрит в ночь. // И видит сквозь орешник / В вечерней чистоте / Лишь небо да скворечник / На согнутом шесте» (А. Белый, «Поповна», 1906). Впоследствии оба компонента пары дважды соседствовали у Мандельштама, и оба раза в таких контекстах, которые практически исключают всякую цитатность по отношению к более ранним мандельштамовским контекстам. Тем не менее в первом из этих двух случаев там же упоминается персонаж Достоевского Ипполит, тезоименный столь важному для Мандельштама трагическому герою, проклятому отцом и изгнанному из отчего дома: «Однажды бородатые литераторы, в широких, как пневматические колокола, панталонах, поднялись на скворешню к фотографу и снялись на отличном дагерротипе. Пятеро сидели, четверо стояли за спинками ореховых стульев. <…> Вечером на даче в Павловске эти господа литераторы отчехвостили бедного юнца – Ипполита» (II, 290). Чуткость Мандельштама к генеалогии чужих текстов известна (см. далее); возможно, и в данном случае он отреагировал на неброский, но последовательный параллелизм персонажей Расина и Достоевского (как известно, любившего французских трагиков): царевича Ипполита атакует зверь наподобие быка, но не бык, с телом дракона, покрытым желтоватой чешуей, а Ипполита Терентьева, согласно его записям, во сне преследует «ужасное животное <…> вроде скорпиона, но не скорпион <…> коричневое и скорлупчатое, пресмыкающийся гад» [Достоевский 1973–1990: VIII, 323]; в обоих текстах чудовище внушает ужас животным, принадлежащим герою, – коням, запряженным в колесницу, собаке Норме; в обоих текстах оно уничтожается, но косвенно причиняет (у Расина) или предвозвещает (у Достоевского) герою последующую смерть; и, наконец, на царевича насылает змея Посейдон (исполняя проклятье его отца, а своего сына Тезея), а гад, преследующий Терентьева, имеет сходство с атрибутом Посейдона – трезубцем: «<…> от головы из туловища выходят, под углом в сорок пять градусов, две лапы, по одной с каждой стороны <…>, так что всё животное представляется, если смотреть сверху, в виде трезубца. <…>» [Там же]. Можно предположить, что мандельштамовский глагол отчехвостили не только аллитерирует с ЧАХОткой (отЧЕХвОстили), но и намекает на приснившегося чахоточному герою скорпиона, у которого жало находится в области ХВОСТа (отчеХВОСТили). Намек на ОТЧЕе проклятье Тезея (ОТЧЕхвостили) кажется маловероятным. Во втором из двух поздних случаев проявления устойчивой архисемы ‘орешник – скворечник’ тематизируются обездоленность и скитальчество (ср. слова-маркеры пешего странствия – товарищ, табак): «Куда как страшно нам с тобой, / Товарищ большеротый мой! // Ох, как крошится наш табак, / Щелкунчик, дружок, дурак! // А мог бы жизнь просвистать скворцом, / Заесть ореховым пирогом – // Да, видно, нельзя никак…» (1930). Как в «Египетской марке», так и в стихотворении 1930 г. корреляция двух элементов не только не автоцитатна, но и, похоже, вполне контингентна (в частности, очевидно, что эпитет пирога ореховый мотивирован прежде всего семантическим параллелизмом с образом Щелкунчика). Однако «память» поэтического языка о соседстве этих элементов может влиять на лексический выбор в условиях дизъюнкции; поэтому вариант щеглом вместо скворцом, появляющийся в одном из списков Н. Я. Мандельштам (см. [Мандельштам 1990а: I, 502]), скорее всего является опиской, а не разночтением (ср. [Сошкин 2005: 69]).
14
Здесь, вероятно, скрытая полемика с Тыняновым, утверждавшим в статье «Промежуток»: «У Мандельштама нет слова – звонкой монеты. У него есть оттенки, векселя, передающиеся из строки в строку. Пока – в этом его сила. Пока – потому что в период промежутка звонкая монета чаще всего оказывается фальшивой» [Тынянов 1929: 573].
15
Ср.: «У Мандельштама <…> [н]еопределенность создается на всех уровнях: “фабульном”, синтаксическом в широком смысле слова, на уровне лексической сочетаемости и т. д. и т. п. Широко используется неопределенная модальность описываемого события. Нельзя сказать, идет ли речь о “действительном” или о “возможном”, “воображаемом”. “Истинной” модальностью является именно “неопределенное”. На фабульном уровне неопределенность широко представлена в неопределенной локализации происходящего (“внутри” или “вовне”), неопределенном коммуникативном статусе (например, является ли “ты” в стихотворении обращением к себе или другому, является ли данный фрагмент текста обращением или называнием и т. д.), неопределенном экзистенциальном статусе и т. д. и т. п. В результате уже на самом поверхностном уровне возникает смысловая дизъюнктивность, причем попытки внести определенность непоправимо разрушают смысл. | Существенным фактором создания неопределенности является расшатывание обычного, “прозаического” синтаксиса. Отдельные элементы изолируются, появляется отчетливая тенденция к повышению удельного веса односоставных предложений без “нормальной” предикативной связи. Часто встречаются случаи, когда неясна синтаксическая соотнесенность сегментов или сегменты являются синтаксически незаконченными. В том же направлении действует и “немотивированное” употребление союзов: так, и употребляется при отсутствии семантической общности в объединяемых сегментах, но – при отсутствии противопоставления и т. п. Сказанное распространяется и на “макросинтаксис” – на синтаксическую организацию текста как целого (и притом не только в лингвистическом, но и в общесемиотическом плане): у Мандельштама в силу преобладания нефабульных принципов организации логические и реальные связи ослаблены, их место занимают, прежде всего, семантические связи <…>» [Левин и др. 1974: 62–63] (сходные положения содержатся в работе [Левин 1998: 51–74]); «Творчеству Мандельштама эпика не знакома. Даже самые длинные его стихотворения лишены нарративного начала. <…> Создается впечатление, что бессюжетность здесь преднамеренная и имеет принципиальное значение» [Лотман М. 1997: 69]. О демонстративном отказе Мандельштама «не только от фабульно-тематической сюжетности, <…> но и от каких бы то ни было синтаксических подпорок, с помощью которых создается мелодико-интонационное развитие поэтической темы <…>», пишет и Л. Силард [1977: 81]. Ср. соображения С. Ю. Преображенского [2001: 203] по поводу статичности, «безвекторности», аграмматичности мандельштамовских многочленных словосочетаний: «…Легкое изменение порядка и частеречного статуса компонентов уже как бы уравнивает их в правах и снимает имеющуюся формально-грамматическую дистинкцию между предицирующим и предицируемым. Все определяют всех. Лексически компоненты оказываются намеренно сближенными и с легкостью обратимыми: варварский поход телег = поход варварских телег = походные телеги варваров = тележный поход варваров. <…>». Эти и подобные обобщения были во многом предвосхищены в опубликованной только в наши дни работе Б. Я. Бухштаба конца 1920-х гг. (см. [Бухштаб 2000]). В данной связи нужно отметить и алогичность многих мандельштамовских тропов, кроющуюся за их суггестивной осязаемостью. Ср., например: «Совершенно невероятна <…> метафора лебяжьего покоя на звериной душе. А ведь она возникла из прозрачного, логически ясного петрарковского “зверей и птиц сон сковывает”! Там, где у Петрарки аналитическая дифференциация, у Мандельштама – фантастическое взаимопроникновение, совмещение, “наплыв”. Душа зверей <…> – словосочетание, само по себе у Петрарки невозможное, – выражает особое ночное состояние мира, обнажение его глубин» [Семенко 1997: 117]. Ср. также во втором «Ариосте» (1935) абсурдное развертывание затертого тропа, столь выразительное, что его сугубо умозрительный характер, скорее всего, читателя не беспокоит: «От ведьмы и судьи таких сынов рожала / Феррара черствая», – получается, что ведьма рожала от судьи тех, кого Феррара рожала от них обоих. Детальный анализ ненарративности мандельштамовского текста на примере стихотворения «Жил Александр Герцович…» см. в гл. III.
16
Ср.: «Мандельштам разрабатывает собственный семантический синтаксис, в основе которого лежит не принцип следования (не важно, причинного ли, временного ли), а смежности и включенности. Слово выстраивается по принципу кластера (“веера”): его смысловая структура открыта для включения смыслов других слов. Смежные слова образуют общую семантическую структуру, становятся одним словом с двоящейся (троящейся и т. д.) звуковой оболочкой <…>» [Лотман М. 1997: 63]. Образцовые примеры семантического подхода можно найти в работах Ю. И. Левина, Д. М. Сегала, М. Ю. Лотмана.
17
Проблема взаимодействия глубинного и поверхностного уровней семантики рассматривается в статье Д. М. Сегала «Память зрения и память смысла» (1974) на примере стихотворения «Язык булыжника мне голубя понятней…» (см. [Сегал 2006: 344–353]).
18
См. [Левин 1998: 115].
19
Ср. шифровальные принципы Ахматовой, в соответствии с которыми «цитирующееся место может быть распределено по нескольким <…> текстам (часто хронологически или композиционно разобщенным), и читательское “узнавание” предполагается только как следствие соположения этих текстов» [Тименчик 1975: 125], ключ к интерпретации может быть вынесен за пределы основного текста и обнаружиться в дате его написания [Тименчик 1989а: 147], в эпиграфе, в том числе отброшенном [Сошкин 2014], и т. д.
20
Примеры. 1. «Ползают мухи по липкой простыне / И маршируют повзводно полки / Птиц голенастых по желтой равнине» («Дикая кошка – армянская речь…», 1930). Эти строки восходят к переводу (1924) из Р. Л. Стивенсона «Одеяльная страна»: «По холмам шерстяного одеяла, / По горам подушечной страны / Оловянная пехота пробежала / И прошли индийские слоны». Образ шествующих по одеялу индийских слонов, прототипичный марширующим по простыне голенастым птицам, всецело принадлежит Мандельштаму – в английском оригинале животные не упоминаются: «And sometimes sent my ships in fleets / All up and down among the sheets; / Or brought my trees and houses out, / And planted cities all about». (Забегая вперед, отмечу, что хотя перевод из Стивенсона лег в подтекст стихов 1930 г. таким мотивом, который не находит себе соответствия в оригинале, с точки зрения функции этого подтекста принципиально значим его переводной характер, а точнее то, что автор его – шотландец (см. об этом далее). 2. «В паутину рядясь, борода к бороде, / Жгучий ельник бежит, молодея в воде» («Как на Каме-реке глазу тёмно, когда…», 1935) ← «Разлапый, на корню, бродяга, / С лазурью в хвойных бородах, / Брат-лес, шуми в сырых оврагах, / Твоих студеных погребах!» (перевод из М. Бартеля «Гроза права», 1925). Ср. в оригинале: «O du, verzweigt und vielgestaltig, / Verworren! Aufwärts! lichtzerwühlt! / O Bruder Wald! Wie urgewaltig / Dein Sausen meine Glut verkühlt!» [Barthel 1920: 47]. Букв. пер.: «О ты, разветвленный и разнообразный, / Запутанный! [А если глянуть] [в]верх! светлорастрепанный! / О брат лес! Сколь могуче-стихийно / Твой шум-свист охлаждает мой жар!» Как мы видим, оригинальная основа образа хвойных бород сводится к неологическому эпитету леса lichtzerwühlt (что лес хвойный, из текста Бартеля заключить нельзя). (Справедливости ради нужно отметить, что позднейший образ жгучего ельника, молодеющего в воде, отдаленно напоминает бартелевский синестетический образ жара, охлаждаемого лесным шумом.)
21
Примеры. 1. В переводе (1923) из Барбье говорится, что кобыла-Франция топтала нежный луг племен («Наполеоновская Франция»). Ср. зачин стихотворения 1920 г.: «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг…». (Об отражении, в свой черед, соответствующей образности Барбье в «Нашедшем подкову» см. [Панова 2003: 634–635].) 2. «А на свежем, на могильном дерне <…> Кто-то величавей и бесспорней / Новой жизни развернет крыла» (перевод из Бартеля «Неизвестному солдату», 1925) ← «…Зачем петух, глашатай новой жизни, / На городской стене крылами бьет?» («Tristia», 1918). Ср. в оригинале: «Doch ein andrer steht auf unserm Hügel, / Über dem die Sonne kreist. / Er entfaltet neue Flügel; / Unbesiegbar flammt der Geist» [Barthel 1920: 88]. Букв. пер.: «Но другой стоит на нашем холме <…> Он раскрывает новые крылья; / Непобедимо пламенеет дух». По оценке Х. Майера, перевод Мандельштама довольно точен, и единственным принципиальным отклонением от оригинала является именно эта замена духа – новой жизнью в финале стихотворения [Meyer 1991: 94] (вопроса об источнике этой замены исследователь не касается). 3. «Промчались дни мои – как бы оленей / Косящий бег» (перевод CCCXIX сонета Петрарки, 1933) ← «И меня срезает время, / Как скосило твой каблук» («Холодок щекочет темя…», 1922). Определение косящий, относящееся к бегу дней-оленей, не имеет соответствия в оригинале (ср. в букв. пер. И. М. Семенко [1997: 118]: «Дни мои легче любого оленя / Промчались как тень <…>») и восходит к глаголу скосило – предикату времени в стихотворении 1922 г. Основанием для этой автореминисценции служит параллелизм каблука и оленьего копыта.
22
Ср.: «…Мандельштам охотно пользовался готовым запасом символистской лексики <…> Вызывая к порогу сознания круги ассоциаций и смыслов из прежних контекстов, “кочующие” слова создают дополнительное приращение смысла. Вот почему, видимо, Мандельштам так высоко ценил широту “упоминательной клавиатуры” поэта: ведь использование таких сигналов ведет к созданию семантических обертонов, связывающих поэта с носителями той же культуры (проходит эпоха – <…> сигналы немеют <…>). И вот почему, видимо, об одном из наиболее ценимых им поэтов он сказал: “Иннокентий Анненский уже являл пример того, чем должен быть органический поэт (подчеркнуто мной. – Л.С.): весь корабль сколочен из чужих досок, но у него своя стать” <…>» [Силард 1977: 86].
23
Можно предположить, что именно так обстоит дело, во-первых, с коррелятивными мотивами, всегда появляющимися вместе, во-вторых, с субъектно-предикатными мотивами и особенно, в-третьих, с коррелятивными субъектно-предикатными мотивами (см. соответствующий анализ мотивов аномального солнца и города, постигнутого бедствием, в гл. VII).
24
См. [Левин 1998: 66].
25
Ср.: «За счет подтекстов возникают отсутствующие в тексте связи, соотнесения отдельных частей стихотворения» [Левинтон 1977: 132]; «…возникает особая структура чисто подтекстовых связей, порождающая новые смыслы, не заданные ни текстом, ни источниками цитат (т. е. подтекстами в собственном смысле слова)» [Там же: 137].
26
Впоследствии эти два явления станут именовать семантической и генетической цитацией соответственно. Ср. дихотомию «семантическая цитата» – «невольное заимствование» [Тименчик 1997: 93].
27
Принимая (с нижеследующими оговорками) это определение, я тем самым вынужден отказаться от редуцированного понимания цитации, согласно которому «отношение подтекстуальности связывает целые тексты, в то время как цитация – лишь фрагменты текстов» [Золян, Лотман 2012: 318–319].
28
«…то, что С. Бобров назвал “заимствованием по ритму и звучанию”» О. Ронен [2010а: 67] иллюстрирует следующим примером: «И ночь-коршунница несет (“Грифельная ода”) – Совы, кочевницы высот (Гумилев. “Мой час”)». Ср. еще: «Вся полость трется и звенит» ← «И мачта гнется и скрипит» [Ronen 1983: 280].
29
Ср. опубликование Пушкиным стихотворения с ощутимой для каждого читателя отсылкой к подтексту, которым, однако, было неопубликованное стихотворение Дельвига, известное только узкому кругу [Лотман Ю. 1977: 59–60]. Ср. также проанализированный И. А. Пильщиковым [2007] феномен одновременной адресации Пушкина и Баратынского к двум категориям читателей: к тем избранным, которым понятны авторские намеки, и к читателям широкого круга, которым дают почувствовать намек, но не оставляют возможности его разгадать. Обе эти коммуникативные стратегии представляют собой, по определению Пильщикова, цитацию, имеющую «телеологическое значение», в противоположность цитации, принадлежащей «к области литературного генезиса» [Пильщиков 2007: 79]. Эти два типа цитации автор ассоциирует соответственно с литературными и языковыми интертекстами (дихотомия, предложенная М. Л. Гаспаровым [2012]). Область языковых интертекстов, в свой черед, может быть соотнесена с глобальным / полным контекстом, поэтому с точки зрения контекстуально-подтекстуального анализа они не относятся к сфере цитации. Поскольку же элементы поэтического языка связаны парадигматическими отношениями, их рассмотрение в аспекте литературного генезиса чревато путаницей.
30
Как в приведенном выше примере мандельштамовского автозаимствования при работе над переводом из Барбье.
31
Пример. По утверждению Г. Шенгели, «[е]сть рифмы “однократные”: поэту удается найти рифму к слову, которое раньше не рифмовалось, или новую рифму к “трудному” слову; например: <…> “юноши” – “гамаюныши” (птенцы легендарной птицы “гамаюн”) <…> Такие рифмы, очевидно, можно применить один раз и удивить читателя находкой; но вторичное их применение или заимствование неизбежно покажется читателю натянутым» [Шенгели 1960: 249]. Образчик «одноразовой» рифмы взят Шенгели из стихотворения его ученика Марка Тарловского: «В пуху и пере, как птенцы-гамаюныши, / Сверкают убранством нескромные юноши» («Игра», 1932). Но та же рифма встречается и у другого ученика Шенгели – Даниила Андреева, в «Железной мистерии» (закончена в 1958), где «добродушные голоса в публике» перед трибуной так характеризуют перевоспитанных преступников: «– А что ж: превосходные юноши: / Не злобные, как овода, / А добрые, как гамаюныши» [Андреев 1993: 272]. И обилие столь же «одноразовых» рифм по соседству, и присутствие в мистерии таких персонажей, как гамаюны и алконосты, свидетельствуют о том, что обсуждаемая рифма воспринималась автором как собственное изобретение (возможно, как давняя заготовка).
32
Примеры. 1. По догадке Георгия Адамовича, восклицание в мандельштамовском стихе «Но русский в Риме; ну так что ж!» («На площадь выбежав, свободен…», 1914) навеяно строкой Ахматовой «Мой друг любимый. Ну так что ж!» («Меня покинул в новолунье…», 1911): «Произнеся “а русский в Риме”, Мандельштам, вероятно, вспомнил по созвучию “друг любимый” и, остановившись, оборвав стих на половине, добавил бессознательно как “реминисценцию”:…Ну, так что ж!» (цит. по [Тименчик 1997: 93]). 2. О. А. Лекманов [2000: 12] отмечает параллелизм целого ряда деталей мандельштамовского «Ленинграда» (1930) и стихотворения Городецкого «Темной ночью по улице шумной…» (1905): «Петербург! У меня еще есть адреса, / По которым найду мертвецов голоса. // Я на лестнице черной живу, и в висок / Ударяет мне вырванный с мясом звонок» ← «Возвращалась по лестнице черной / И звонила с отвагой притворной. // Но за дверью звонок оборвался / И упал, и звенел, извинялся. // Отворила старуха, шатаясь, / Мертвецом в зеркалах отражаясь» (курсив О. А. Лекманова; ср. также не отмеченное им: «кандалами цепочек дверных» ← «за дверью»; «Рыбий жир ленинградских речных фонарей» ← «Огоньки в фонарях потухали»). Несмотря на обилие лексических, фразеологических и мотивных совпадений, кажется, нет оснований заподозрить Мандельштама в семантической цитации; мы явно имеем дело с непроизвольным заимствованием. И хотя стихотворные размеры и ударения в клаузулах двух текстов различны, строфика и схема рифмовки у них одинаковые. 3. В строках «Что, если Ариост и Тассо, обворожающие нас, / Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз?» («Не искушай чужих наречий…», 1933) слова обворожающие нас, вероятно, подсказаны строками Тютчева «Своей неразрешимой тайной / Обворожают нас они» («Близнецы», 1851). Импульсом к заимствованию, помимо эквиметричности двух текстов, могла послужить созвучность слов тайной и Тассо (которая представляется достаточной для бессознательного звукоподражания, но не для аллюзии, рассчитанной на распознание), а также субстантивированных прилагательных земнородных из первой строки стихотворения Тютчева («Есть близнецы – для земнородных / Два божества <…>») и земноводных (каковые не упоминаются у Мандельштама, но именно земноводными изображены «близнецы» Ариост и Тассо; ср. их чешую из влажных глаз). (О «Близнецах» как подтексте «двойчатки» 1918 г. «Твое чудесное произношенье…» и «Телефон» см. [Тименчик 1988: 160].)
33
Ср., впрочем, такое явление, как отказ от устранения прямых заимствований в порядке демонстративной негации влияния, как в случаях заимствований из Брюсова у Ахматовой [Тименчик 1981: 68].
34
Например, Пушкин возвращается к изображению влюбленной, сомневающейся в том, что ее чувство взаимно, дотрагивающейся до холодной поверхности окна и в сумерках посылающей записку (в позднейшем тексте – принимающейся писать) своему возлюбленному, – но делает он это уже не в стихах, а в прозе: «– Итак, пошли тихонько внука / С запиской этой к О… к тому… <…> Смеркалось <…> Татьяна пред окном стояла, / На стекла хладные дыша, / Задумавшись, моя душа, / Прелестным пальчиком писала / На отуманенном стекле / Заветный вензель О да Е» (1827) → «Начало смеркаться <…> Долго стояла она на том же месте, опершись горячим лбом о оледенелое стекло. – Наконец она сказала вслух: “нет, он меня не любит”, позвонила, велела зажечь лампу и села за письменный столик» («На углу маленькой площади…», 1830–1831). Если Татьяна пишет на стекле вензель О да Е, то Зинаида лишь прижимается к нему лбом, но зато на соответствующем отрезке текста возникает предельная концентрация этих двух гласных – что и заставляет заподозрить здесь автоцитацию, а не автозаимствование (выделяю как ударные, так и безударные гласные): ДОлгО стОяла Она на тОм жЕ мЕстЕ, опЕршись гОрячим лбОм О ОлЕдЕнЕлОЕ стЕклО.
35
Ср.: «Функция многих из “дополнений” к “Поэме без героя” – это регистрация в стихотворном тексте выявленных авторским пост-анализом импульсов к созданию этой поэмы» [Тименчик 1981: 69]. Ср. также попытку З. Г. Минц разграничить заимствование и как бы непроизвольную цитацию (в ее терминах – соответственно «забытую цитату» и «цитату, играющую роль забытой»). Первая сравнивается с явлением естественно-языковой омонимии, вторая признается явлением поэтики [Минц 1992: 126]. «Бессознательное» подтекстообразование уместно сопоставить с «особ[ым] тип[ом] произведений акмеистов <…> таких, о которых автор впоследствии может сказать: “Я только теперь догадался, о чем это стихотворение”» [Тименчик 1988: 163]. К этому типу относится, например, «Вернись в смесительное лоно…» (1920), в котором один библейский подтекст заслонил от самого автора другой, более значимый (см. гл. VII): «Однажды, когда он доказывал мне, что я не только принадлежу ему, но являюсь частью его существа, я вспомнила стихи про Лию. Библейская Лия – нелюбимая жена. И я сказала: “Я теперь знаю, о ком эти стихи…” Он, как оказалось, окрестил Лией дочь Лота. Тогда-то он мне признался, что, написав эти стихи, он сам не сразу понял, о ком они. Как-то ночью, думая обо мне, он вдруг увидел, что это я должна прийти к нему, как дочери к Лоту. Так бывает, что смысл стихов, заложенная в них поэтическая мысль не сразу доходит до того, кто их сочинил» [Мандельштам Н. 1990: 193]. Ср. в комментарии Надежды Яковлевны к «Внутри горы бездействует кумир…»: «Перед тем как надиктовать мне этот текст [текст второй строфы. – Е.С.], О. М. сказал: “Я догадался – это Шилейко”…» [Мандельштам Н. 2006: 374–375].
36
Примеры таких изъятий в творчестве Гумилева в порядке его «борьбы <…> с навязчивыми реминисценциями из Блока» приводит О. Ронен [2002: 68–70].
37
Пример. «Бедный, слабый воин Бога, / Весь истаявший, как дым, / Подыши еще немного / Тяжким воздухом земным» (Ф. Сологуб, «Подыши еще немного…», 1927) ← «Брат мой, враг мой, ревы слышишь, / Чуешь запах, видишь дым? / Для чего ж тогда ты дышишь / Этим воздухом сырым?» (Н. Гумилев, «Леопард», 1921). Трудно заподозрить Сологуба, чье стихотворение появилось вскоре после того как он перестал вставать с постели [НФС 1997: 224–225], в сложных интертекстуальных маневрах: поэт явным образом соотносит себя с пушкинским рыцарем бедным, тогда как дважды повторенная (с вариациями) ключевая строфа и форма второго лица представляют собой бессознательное подражание Гумилеву. Тем не менее коллизия межеумочного состояния разработана Гумилевым намного обстоятельнее, чем Пушкиным, и мотив предсмертного дыхания, возникающий только у Гумилева, связывают текст Сологуба с текстом Гумилева отношением цитатности.
38
Так, по поводу «Гренады» Светлова, вторящей переводу Минского из Иегуды Галеви, Р. Д. Тименчик [1997: 91] заключает: «…“снятым” подтекстом троцкистской утопии являются палестинофильские чаяния, которые не могли миновать М. А. Шейнкмана-Светлова в его екатеринославском детстве».
39
Например, следующие четыре отрывка, непосредственно не связанные между собой, почти одинаковым образом персонифицируют слепую судьбу: «…Иль мне в лоб шлагбаум влепит / Непроворный инвалид» (А. Пушкин, «Дорожные жалобы», 1829); «То не тени встают – по волнам плывут / Пушки медные. // Корабельный флаг отдаленьем скрыт, / Словно дымкою. / Там судьба твоя с фитилем стоит / Невидимкою» (Я. Полонский, «На берегах Италии», 1858); «А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье с шумом ворвалось в контору. И хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Буциса, но оно было пьяно, как водовоз» (И. Бабель, «Как это делалось в Одессе», 1923); «…Когда судьба по следу шла за нами, / Как сумасшедший с бритвою в руке» (А. Тарковский, «Первые свидания», 1962).
40
Примером могут служить эпизоды с людьми, попавшими под трамвай вследствие козней дьявола, в рассказе Набокова «Сказка» (1926) и романе Булгакова «Мастер и Маргарита», восходящие к аналогичному эпизоду в рассказе Куприна «Звезда Соломона» (1917) [Петровский 2005].
41
Пример. В очерке Б. Садовского о Бенедиктове имеется следующий пассаж: «В Бенедиктове, как в человеке, так и в поэте, всего неприятнее его утрированное смирение на паточно-фарисейской подкладке. Типично чиновническая черта! Из биографии Бенедиктова нам известен такой случай. Страстно влюбленный поэт, узнав, что у него имеется счастливый соперник, смиренно и безгневно отошел в сторону. Мало того, Бенедиктов не только не возненавидел похитителя своего счастья, но еще писал для него стихи, прося передавать их его возлюбленной от имени соперника. Какой истинный поэт, и не только поэт, а просто живой и сильно чувствующий человек, кроме департаментского чиновника, решился бы на такое самоотвержение? Этот поступок выпотрошенного заживо человека неоспоримо свидетельствует о крайней бедности ничтожной и серой души», и т. д. [Садовской 1910: 93–94]. К сожалению, мне не удалось найти источник этого биографического анекдота, но кажется невероятным, что он мог получить такую интерпретацию в годы всеобщего увлечения Ростаном.
42
Вместе с тем имплицитный интратекстуальный прием в чистом виде, т. е. не скрещенный с приемом другого типа (интертекстуальным или языковым) и реализованный в пределах безусловно неделимого текстуального единства, – в творчестве Мандельштама исключительная редкость, если не нонсенс.
43
Ср.: «“Опять холодные седые небеса, / Пустынные поля, набитые дороги, / На рыжие ковры похожие леса, / И тройка у крыльца, и слуги на пороге…” / Ах, старая наивная тетрадь! / Как смел я в те года гневить печалью Бога? / Уж больше не писать мне этого “опять” / Перед счастливою осеннею дорогой!» (И. Бунин, 1923); «Надо мной не смеялись матросы. / Я читал им: “О, матерь Ахайя!” / Мне дарили они папиросы, / По какой-то Ахайе вздыхая» (А. Тарковский, «Стихи из детской тетради», 1958).
44
Так, например, в стихотворении «Надоело» (1916) Маяковского поэт в начале не выдерживает сидения дома, где – «Анненский, Тютчев, Фет», а в конце возвращается с намерением декламировать в одиночестве свою последнюю книгу «Простое как мычание». Таким образом, собственные стихи упоминаются в качестве предпочтительной альтернативы классическим. См. также гумилевскую «Надпись на “Колчане”» Лозинскому: «От “Романтических цветов” / И до “Колчана” я все тот же, / Как Рим от хижин до шатров, / До белых портиков и лоджий» (1915).
45
Ср. в «Поэме без героя» стих «И вино, как отрава, жжет» с отсылкой в авторском примечании к источнику – «Новогодней балладе».
46
Ср. полемическое суждение (1982) М. Ю. Лотмана о принадлежащем Ю. И. Левину [1998: 35–44] разборе (1971) стихотворения «Мастерица виноватых взоров…», где «не навязчиво, но последовательно проводится выработанный литературоведческим структурализмом метод выявления внутритекстовых оппозиций. Не вдаваясь в дискуссию по теоретическим вопросам, отметим, что для описания семантической структуры поэзии Мандельштама, избегающей всякой однозначности – в том числе, как это убедительно показал Ю. И. Левин, и однозначной антитетичности – этот метод едва ли представляется наиболее адекватным своему объекту» [Золян, Лотман 2012: 130]. Мандельштам не только избегает антитетических построений в области семантики, но и разными способами уклоняется от строгого параллелизма даже там, где он задан стиховым форматом, – например, используя подчеркнуто неточную рифму вместо другой, напрашивающейся («Я пошел в наступление: | – Осип Эмильевич, почему такая странная, нищая рифма: “Обуян – Франсуа”? Почему не сделать “Антуан”, и все будет в порядке, и ничего не меняется» [Липкин 1994: 24–25]), или перемещая «рифмующе[е] слов[о] из окончания, клаузулы, в другое место стиха: <…> К царевичу младому Хлору [ – ] | И – Господи благослови – | Как мы в высоких голенищах / За хлороформом в гору шли. <…> ожидалось бы: “Как мы за хлороформом в гору / В высоких голенищах шли”. Но Мандельштам ради эмфазы меняет порядок слов <…>» [Ронен 2007: 103–104]. (Ср. в том же стихотворении «Когда в далекую Корею…» внутреннюю диссонансную рифму ‘русский – ириску’ и парадоксальную рифму ‘золотой – за щекой’ – одновременно и богатую, и неточную с оттенком нарочитой небрежности.) Еще в 1916 г. сходную тенденцию к тушеванию рифм отмечал у Ахматовой В. М. Жирмунский [1977: 113].
47
Ср. оценку Мандельштамом-теоретиком образного и фонетического материала как самого по себе несущественного для поэзии [Левин 1998: 148], а также характерное для Мандельштама введение каламбуров (т. е. гиперэксплицитных интралингвистических приемов) преимущественно в трагическом и патетическом контексте, инвертирующем их исходную семантику [Там же: 126]. См. также рассуждения Г. А. Левинтона: «…мы постоянно упускаем из виду, что та виртуозная игра, которую удается обнаружить в поэзии акмеистов, самым непосредственным образом граничит с областью “литературной шутки” и часто, распутывая цепочку подтекстов, отказываемся верить себе, докопавшись до скрытого иронического выпада, каламбура, шутки. Между тем сам эффект действия узнавания цитаты, и шире – аллюзии <…> в своих основах сродни механизму восприятия остроты, анекдота, комического point. Слияние “серьезного” и комического в самых разных формах <…> [в] области литературной эволюции [находит аналогию] <…> в том превращении каламбура в “высокий” поэтический прием, которое характерно для постсимволистов, но, вероятно, есть уже у Пушкина. Это превращение оказывает и “обратное” воздействие – делает более относительной, проницаемой границу между комическим и “серьезным” <…>» [Левинтон 1989: 40–41].
48
Принципиальная апелляция к другому тексту как целому – достижение символизма. Ср.: «Хотя эксплицированными в символистском тексте знаками “мифов” оказываются цитаты, реминисценции, мифологемы и другие отсылки к “текстам-источникам”, в качестве основных смыслоносителей должны были ощущаться все же именно сами эти “тексты-источники” <…>. Именно целостный текст был “цитируемым мифом”» [Минц 2004: 76].
49
Об истоках подтекстуального анализа см. также [Левинтон, Тименчик 2000: 405].
50
Так, по свидетельству Вяземского, Пушкин «боялся, что певец “Дон Жуана” упредит его и внесет поединок в поэму свою. Пушкин с лихорадочным смущением выжидал появления новых песней, чтобы искать в них оправдания или опровержения страха своего. <…> Наконец, убедившись, что в “Дон Жуане” поединка нет, он зарядил два пистолета и вручил их сегодня двум врагам, вчера еще двум приятелям» [Вяземский 1984: 287].
51
Пример. Первоначальное определение времени действия повести «Песнь торжествующей любви» – «В середине сороковых годов XVI столетия» – Тургенев по совету редактора (Стасюлевича) изменил на «Около половины XVI столетия», ориентируясь на образ середины жизненного пути в первом стихе «Божественной Комедии», как он пояснил в письме к Стасюлевичу от 11 (23) сентября 1881 г. Эта реминисценция, проанализированная А. А. Илюшиным [1968: 157], принципиально не распознаваема в рамках текстуальной данности, хотя и бесспорна благодаря внетекстовому свидетельству автора.
52
Например, у Пушкина, Тютчева (см., в частности, мои публикации: [2010], [2012], [2014а]). В качестве примера укажу здесь на стихотворение Фета (<1844>) как, вероятно, самый ранний случай развернутого подтекстуального обыгрывания «Пира Петра Первого», предвосхитивший аналогичные опыты Тютчева («Современное», 1869; пушкинский подтекст раскрыт, хотя и не во всех деталях, Р. Г. Лейбовым [2006]) и Блока («Пушкинскому Дому», 1921; подтекст, кажется, до сих пор не проанализирован, но давно известен, – см. [Блок 1960–1963: III, 637]): «За кормою струйки вьются, / Мы несемся в челноке, / И далеко раздаются / Звуки “Нормы” по реке. <…> Струйки вьются, песни льются, / Вторит эхо вдалеке, / И, дробяся, раздаются / Звуки “Нормы” по реке» ← «Над Невою резво вьются / Флаги пестрые судов; / Звучно с лодок раздаются / Песни дружные гребцов <…> И Нева пальбой тяжелой / Далеко потрясена. <…> Отчего пальба и клики / И эскадра на реке? <…> Оттого-то шум и клики / В Питербурге-городке, / И пальба и гром музыки / И эскадра на реке <…> И Нева пальбой тяжелой / Далеко потрясена».
53
Ср. «В новой русской поэзии (т. е. начиная с 18 века) цитатность уже теряет тяготение к чистому центону, и цитата становится одним из многих мелких литературных приемов. Особенно частым является использование цитаты для литературного персифляжа, и в таких случаях она обыкновенно подается на фоне “неподходящего” контекста или сопровождается ироническим комментарием» [Марков 1967: 1273].
54
Ср.: «Если традиционно цитирование есть введение в свой текст фрагмента чужого текста, то у акмеистов материально тот же фрагмент выступает в роли знака этого текста, который становится означаемым этого знака <…>» [Золян, Лотман 2012: 320]. Экстремальным примером традиционного обращения с текстом-источником может служить «Пир во время чумы», любые параллели между текстом которого и не переведенными Пушкиным действиями трагедии Вильсона заведомо случайны, поскольку соответствующие страницы пушкинского экземпляра английского издания остались неразрезанными [Долинин 2007: 105].
55
Примером такой утилитарной цитации может служить эпиграмма Вяземского «Важное открытие» (1845), заканчивающаяся так: «Не все ж бы тотчас угадали, / Кто целью был моих улик. / Но он не вытерпел, ответил / И сдуру ясно доказал, / Что хоть в кого бы я ни метил, / А прямо в лоб ему попал». Заключительные слова, как известно, воспроизводят концовку пушкинского «Воеводы» (см. [Вяземский 1986: 506]). На этот перевод из Мицкевича выбор пал, очевидно, с намерением в очередной раз обыграть польское происхождение объекта насмешки (хотя материал баллады – украинский), а кроме того, с целью мобилизации привнесенной Пушкиным иронии, заключенной в словах «Хлопец видно промахнулся»: инструкции воеводы («Левее… выше»; у Мицкевича – «Wyżej… w prawo…») указывают на то, что он находится позади «хлопца», которому, следовательно, для «промаха» потребовалось резко развернуться). Между тем содержание баллады в целом автор эпиграммы явно не берет в расчет, ведь если развить аналогию, то выйдет, что князь Вяземский приравнивает себя к холопу Фаддея Булгарина, только что им же самим объявленного подлым («Я знал давно, что подл Фиглярин»).
56
О. Ронен блестяще продемонстрировал на ряде примеров, как «подтекст у Пастернака работает наперекор сюжету, прикровенный поэтический прием опровергает откровенно морализирующее сообщение» [Ронен 2012]. Забавный пример неконтролируемого подтекста или, точнее, интертекста, находим в книге стихотворений Мейснера [1836], два из которых, объединенные местом и временем написания (Петербург, 1833), содержат знаменательное текстуальное пересечение: «Внизу шумит, кипит народ, / Но, как пигмеи, люди мелки, / И все предметы их забот / В моих глазах теперь безделки! / Противна мне их беготня <…>» («Вид с Александровской колонны»); «Вид флегматический храня, / Глядит коровушка на скачку; / Смешна ей эта беготня – / Она жует спокойно жвачку» («Корова»). На явный параллелизм между покойным императором и жвачным животным, очевидно, не обратили внимания ни автор, ни цензор Иван Снегирев (благодаря удаленности двух текстов в пространстве книги: они помещаются соответственно на с. 8–9 и 152–154), ни первые читатели. Резкое различие контекстов использования одной и той же лексико-ритмико-синтаксической конструкции побуждает в данном случае говорить именно о бессознательной автоцитации (курьезность которой нисколько не зависит от ее направления), а не об автозаимствовании (другое ходовое обозначение которого, апеллирующее к аспекту поэтического языка, а не речи, – авторское клише).
57
Об этой области научного творчества Соссюра см. [Starobinski 1971], [Lévy-Strauss 1971: 581–582], [Lotringer 1973], [Иванов В. В. 1977], [Пузырев 1995] и др.
58
См. выборочный перечень таких работ и отсылки к дополнительной библиографии: [Gronas 2009: 163]. См. также применение анаграмматического подхода к творчеству ряда русских поэтов XIX – нач. ХХ в. в публикациях В. С. Баевского и А. Д. Кошелева [1975], [1977], [1979].
59
Так, в 1967 г. появилась статья Вяч. Вс. Иванова о стихотворении Хлебникова «Меня проносят на слоновых…», содержавшая программную отсылку к соссюровской теории анаграмм [Иванов В. В. 1967: 165], в 1970 – статья Р. О. Якобсона, в которой по методу Соссюра был проанализирован хлебниковский «Кузнечик» (соответствующая часть этой статьи опубликована по-русски: [Якобсон 2000]), в 1972 – заметка Р. Д. Тименчика, где с позиций Соссюра была отмечена, в частности, ходовая гипограмма имени Ахматовой, заключенная в междометии «ах» [Тименчик 1972: 79], и заметка Вяч. Вс. Иванова об анаграммах у Мандельштама, отразившая, согласно позднейшему авторскому пояснению, «одновременно увлечение поздними стихами Мандельштама и возможностями техники анализа анаграмм, открывшимися после публикации в середине 1960-х записей о них Соссюра» [Иванов В. В. 2000: 441]. См. также: [Мейлах 1975], [Левинтон, Смирнов 1979], [Парнис 1999], [Леннквист 1999: 52–72] и др.
60
Ср.: «…структурально-семиотические приемы мысли родились примерно в ту же эпоху, что и поэтика нашего серебряного века. Осознание их внутренней связи должно привести к более смелому употреблению этих приемов при изучении модернизма и к более осторожному – применительно к другим литературным эпохам <…>» [Гаврилов 1995: 90]. Это обобщение можно проиллюстрировать «несомненн[ой] анаграмм[ой] имени “Полициан” в блоковском переводе “Эпитафии Фра Филиппо Липпи”, разобранной Соссюром» [Тименчик 1972: 79] («Душу умел я вдохнуть искусными пальцами в краски»).
61
Позднейшие контакты Мандельштама с последователями Соссюра упоминаются (вне связи с анаграмматической теорией) Ф. Б. Успенским [2008: 90–91].
62
О том и другом типе шифровки применительно к русской литературной традиции см. [Смирнов 1996: 21–23].
63
Например, в «Стихах о неизвестном солдате» эпитет ласточки – хилая – созвучен с древнегреческим χελιδων (см. обстоятельный анализ В. Н. Топорова [1987а: 230–232]).
64
Например, определение чепчик счастья в «Стихах о неизвестном солдате» представляет собой кальку немецкого слова Glückshaube [Литвина, Успенский 2011: 74], а строки «Солнц подсолнечника грозных | Прямо в очи оборот? | – построены на переводе французского названия подсолнечника tournesol» [Левинтон 2010: 267].
65
На тот момент подобные примеры исчислялись единицами, но теперь их выявление превратилось в отрасль мандельштамоведения (см. прежде всего книги Г. Г. Амелина и В. Я. Мордерер, Л. Р. Городецкого), а массив накопленных догадок создал потребность в разработке более тонких проверочных механизмов. Позднейшие наблюдения Г. А. Левинтона в этой области содержатся в его публикациях [2005], [2007], [2010] и др. См. также реферативное сообщение Ф. Б. Успенского, приводимое в кн.: [Золян, Лотман 2012: 173–174].
66
Возражая против столь широкой трактовки приема языковой загадки, оппонент Г. А. Левинтона писал, что «в поле зрения исследователей “анаграммы” [неоправданно] вошли многообразнейшие аллюзии и вообще все, что указывает на связь одного текста с другим» [Гаврилов 1995: 97].
67
Как, например, в акростихах, у Мандельштама практически отсутствующих. Маловероятное исключение – слово ХРИП, слагающееся из начальных букв строк второй строфы «Мастерицы виноватых взоров…» [Черашняя 2004: 231–232]. Не столь экзотична для Мандельштама словесная загадка с «перевернутой» отгадкой прямо в тексте: «Нева – как вздувшаяся вена» в «Летних стансах» (1913) [Ронен 2002: 18]; «…появляющийся <…> в “Египетской марке” комарик – последний египтянин <…> – это метатеза: комар-марка» [Там же: 30]. Нужно отметить, что в точности такие же загадки с отгадками встречаются и в народной поэзии; ср.: «Диявола, дело ево» (беломорская старина «<Страшный суд>», записанная от А. М. Крюковой).
68
О звуковых метафорах у Мандельштама см.: [Успенский Б. 1996], [Фрейдин Ю. 2001]. К описанным в этих и других работах случаям таких «подлогов» (ср., напр., струн вместо струй в «Египетской марке» [Тоддес 2005: 438–439]; почет вместо полет в «Не искушай чужих наречий…» [Тоддес 1999: 232] – кажется, на это наблюдение Е. А. Тоддеса натолкнула опечатка в собственной публикации [1998: 305]; косыми вместо босыми в «Стихах о неизвестном солдате» [Левин 1979: 200]; склока вместо свара, а эта «теневая» свара, в свой черед, вместо свора в названии перевода из Барбье «Собачья склока» [Struve 1975: 137–138]) добавлю следующие. 1. «Сухаревка» (1923): «Русского человека тянет на базар не только купить и продать, а чтобы вываляться в народе, <…> подставить спину под веник брани, божбы и матерщины <…>» (III, 33). Благодаря соседству со словом веник в слове брани звучит другое слово – бани, дающее ключ к подспудной метафоре базара как негативного эквивалента бани, то есть как места, куда приходят испачкаться – вываляться (ср. [Сошкин 2005: 61]). Ср. словосочетание вымытая басня в «Канцоне» (1931). 2. «Египетская марка»: «Каким серафимам вручить робкую концертную душонку, принадлежащую малиновому раю контрабасов и трутней?» (II: 289). Упоминание трутней, чья единственная функция в пчелином социуме – участие в роении, проявляет слово рой в слове рай – аналогично тому, как это делал эпитет летучий в стихах 1911 г.: «И падающих звезд пойми летучий рай» («Я знаю, что обман в видении немыслим…») (ср. [Там же: 22]). 3. «Когда Психея-жизнь спускается к теням…» (1920), черновая редакция: «…Дохнет на зеркало – и медлит уплатить / Лепешку медную хозяину парома». Упоминание парома дополняет образ зеркала, на которое дохнули: оно покрывается паром. Соответственно, в беловой редакции паром преобразуется в переправу, а его поэтическая этимология – в эпитет переправы: туманная. 4. В написанных одно вслед за другим эквиметричных стихотворениях 1920 г. «За то, что я руки твои не сумел удержать…» и «Когда городская выходит на стогны луна…» стогны преображаются в стога: в первом случае благодаря соседству вола и соломы («И медленный день, как в соломе проснувшийся вол, / На стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится»), во втором – по сходной причине, сообразно метаморфозе городской луны в сельскую, представленную бледной жницей, срезающей своим серпом желтую солому лунного света. 5. В переводе из Барбье читаем: «Пятнадцать лет она под черствою эгидой / Топтала нежный луг племен, / Пятнадцать лет топтал битюг по праву ига / Народных прав зеленый сонм» («Наполеоновская Франция»). Соотношение глагола топтала, существительного луг и прилагательного зеленый подсказывает корреляцию по праву / потраву и прав / трав, а битюг побуждает расслышать в существительном ига звукоподражательное слово. 6. «Сыновья Аймона» (1922): «Каленые орехи не так смуглы на вид, / Сукно, как паутина, на плечах у них висит – / Где родинка, где пятнышко – мережит и сквозит». Выделенные слова – «замена слову прорехи, чье появление почти ожидается благодаря слову орехи. Ср. у Пастернака: “Под прорешливой сенью орехов <…>” (“Вечерело. Повсюду ретиво…” [, 1931])» [Там же: 69]. 7. В словосочетании в кислой корчме («И по-звериному воет людье…», 1930) эпитет кислая проявляет в слове корчма слово корча. 8. В «Стихах о русской поэзии», 3 (1932) еж черно-голуб кодирует перечисление лесных ягод: еж[евика] – черн[ика] – голуб[ика]. 9. В зачине стихотворения «Я в львиный ров и в крепость погружен…» (1937), написанного под впечатлением от вокала, сквозь ров явственно слышен рёв. 10. В строках «Как сквозит и в облаке тумана / Ярких дней сияющая рана!» («Ты прошла сквозь облако тумана…», 1911) в прилагательном сияющая буквально сквозит прилагательное зияющая. Похоже, в других поэтических системах звуковые метафоры этого рода возникают лишь спорадически; ср.: «Взгляните: этот столб, гигант окаменелый, / Как в поле колос переспелый, / К земле он древнею склонился головой» (В. Тепляков, «Четвертая фракийская элегия», 1829); «пахарь башню бороздит» (И. Коневской, «В езде», 1900).
69
Примеры. 1. Заключительная строфа «Посоха» (1914) анаграммирует неназванное ключевое слово пилигрим: «Снег растает на утесах, / Солнцем истины палим, – / Прав народ, вручивший посох, / Мне, увидевшему Рим!» [Ронен 2002: 18]. Это удостоверяется, с одной стороны, рифменной позицией астионима Рим – одной из двух возможных (наряду с астионимом Иерусалим / Ерусалим) смысловых рифм к пилигрим (ср.: «С толпой на коленях стоял пилигрим, / В простую одет власяницу; / Впервые узрел он сияющий Рим, / Великую веры столицу». – В. Жуковский, «Покаяние», 1831; «Так, крест приняв на бранные одежды, / Шли рыцари в святой Ерусалим, / Ударил гром, в прах пала цель надежды, – / Но прежде пал дорогой пилигрим». – К. Павлова, «Зовет нас жизнь: идем, мужаясь, все мы…», 1846), а с другой – вторым рифмуемым сегментом – солнцем палим, заставляющим вспомнить некрасовские «Размышления у парадного подъезда»: «…Развязали кошли пилигримы, / Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв, / И пошли они, солнцем палимы». 2. Пример из «Египетской марки»: «Так коньки, привинченные к бесформенным детским ботинкам, к американским копытцам-шнуровкам, сращиваются с ними <…> и оснащенная обувь <…> превращается в великолепные драконьи ошметки <…>» (II, 297). Ошметки, развивающие тему бесформенности детских ботинок, имплицируют корневую морфему -дран в слове ДРАкоНьи, а коньки «привинчиваются» не только к детским ботинкам, но и – метатекстуально – к словосочетанию драКОНЬи ошметКИ.
70
Пример: «Маком бровки мечен путь опасный. / Что же мне, как янычару, люб / Этот крошечный, летуче-красный, / Этот жалкий полумесяц губ?» («Мастерица виноватых взоров…», 1934). Словосочетание мечен путь комбинирует два других, нормативных: намечен путь и Млечный Путь, – что подготавливает семантику полета и ночного неба (летуче-красный… полумесяц; ср. отмеченный М. Безродным намек на деву Марию – путеводную звезду – Maria Stella Maris: «Ты, Мария, – гибнущим подмога»). В то же время другой семантический ряд, куда входят янычар и полумесяц, включает слово, зашифрованное в том же словосочетании по принципу фрагментации: МЕЧЕн пуТЬ.
71
Примеры. 1. По догадке С. Гольдберга, в стихотворении «На каменных отрогах Пиэрии…» (1919) имя ТерПАНДРа анаграммирует черепаший панцырь [Goldberg 2011: 119]. Стоит добавить, что это имя созвучно также со словом черепаха (наряду с другими словами, обеспечивающими этой строфе концентрацию консонантов т/ч, р, п, н: НеРасТоРоПНа, ПРиласкаеТ, ПеРевеРНеТ). 2. В «Египетской марке» Спиноза назван горбатым (II, 476) в порядке русифицирующей квазиэтимологии его имени (как мне указал А. Соболев, характеристика горбатый Спиноза в применении к еврею появляется также в повести Эренбурга 1926 г. «В Проточном переулке»; позднее это было отмечено и в коллективном комментарии к «Египетской марке» [Мандельштам 2012: 210]). 3. В начале стихотворения 1935 г.: «За Паганини длиннопалым / Бегут цыганскою гурьбой <…>», – мотив бега за Паганини квазиэтимологически связывает его имя с погоней (характеристика виртуоза длиннопалый подсказывает, что речь идет именно о преследовании, а не просто о движении следом) и с глаголом погонять, учитывая последующий эпитет чалый в применении к Шопену, упоминание скачек, а также остроумную гипотезу К. Елисеева о том, что в подтексте здесь – стихотворение Пяста о беговой лошади «Великолепная Мангуст» (1922). Примером эксплицитной квазиэтимологизации имени собственного могут служить операции над астионимом Воронеж в «Пусти меня, отдай меня, Воронеж…» (1935) (см. [Иванов В. В. 2000: 435–437] и гл. VII наст. кн.).
72
Самый знаменитый пример содержится в строке «Фета жирный карандаш» («Дайте Тютчеву стрекозу…», 1932), где фамилия Фет омонимична немецкому эквиваленту слова жирный – fett [Левинтон 1979: 33].
73
См. анаграммирование имени Ницше в «Раковине»: оЦЕНИШь [Ронен 1992: 520]; Овидия в черновиках «Не веря воскресенья чуду…» [Левинтон 1977: 223]; Ленина – в «Да, я лежу в земле, губами шевеля…»: на земЛЕ посЛЕдНИй жив НевоЛЬНИк (см. гл. IV); Наполеона – в «Стихах о неизвестном солдате»: за полем полей ПОЛЕ Новое, свет ОПАЛЬНый [Ронен 2002: 111]; Сталина – в финале «Оды» (сообразно риторическому заданию – более чем откровенное), астионима Ерусалим – в «Как народная громада…»: многоЯРУСное [Тоддес 1999: 232] и т. п. Ср. строки «То вдруг прокинется безумной Антигоной, / То мертвой ласточкой бросается к ногам» («Я слово позабыл, что я хотел сказать…»), где глагол прокинется предположительно намекает на Прокну, превращенную в ласточку (см. [Ошеров 1995: 200], [Ронен 1989: 293]). В этой связи М. Безродный поделился со мной следующими соображениями. Прокинется не означает здесь ни «прометнется, взовьется» [Мандельштам 1990а: I, 489], ни «украинизм <…>: проснется, очнется» (I, 571), но – термин ткацкого производства: челнок в станке «прокидывает нить». Следовательно, пустой челнок можно трактовать как челнок без нити. В русле метафорики «текста как текстиля», плетения / вития словес и т. п. Прокна, скрытая в прокинется, отсылает к истории о том, как лишенная языка Филомела передала Прокне свое сообщение, выткав его.
74
См. анаграммирование имени Горнфельда в «Четвертой прозе»: бородатые мужчины в РОГАТЫХ МЕХОВЫХ шапках ← Horn [нем. ‘рог’] + Fell [нем. ‘мех’] [Городецкий 2008: 304]. Ср. также брадобрея в обоих «Ариостах» как предполагаемый семантический намек на имя Барбье и его революционные коннотации [Левинтон 1998: 740]).
75
Как в «Notre Dame» (1912): нервы ← (нервюры) ← (Нерваль) [Левинтон 1998: 748–749].
76
Ср. слова Ахматовой в записи П. Н. Лукницкого от 23 марта 1926 г.: «…Когда у старого итальянца попадается широко развитый образ сердца, вынутого из груди и переданного возлюбленной, которая его ест, – это значит только, что в основе его, кажущегося таким сложным, лежит простая народная поговорка о “сердцеедке”. <…>».
77
Для Мандельштама импликация фразем весьма обычна. Примеры. 1. В «Еще не умер ты, еще ты не один…» (1936) зашифрована пословица «Собака лает – ветер носит»: «Несчастлив тот, кого, как тень его, / Пугает лай собак и ветер косит» [Ронен 2010а: 92–93]. Слова «как тень его, пугает» представляют собой амфиболию: слово тень можно понимать и как стоящее в винительном падеже, и как стоящее в именительном падеже. При втором варианте прочтения в подтекст ложится еще одна фразема: «Пугаться собственной тени». 2. В «Шуме времени» упоминание Антона (Рубинштейна) влечет за собой появление в следующей фразе мотива самосожжения (II, 218) по ассоциации с идиоматическим названием: антонов огонь. 3. Зашифрованными фраземами изобилует «Мастерица виноватых взоров…». Как уже упоминалось выше, словосочетание мечен путь имплицирует Млечный Путь. На пересечении мастерицы, плеч и зачина второго стихотворения, обращенного к Петровых, – «Твоим узким плечам под бичами краснеть…» – проявляется идиома заплечных дел мастер (наблюдение М. Безродного). В строке «Маком бровки мечен путь опасный» с бровкой непосредственно корреспондирует путь опасный на основе фразеологизма ходить по бровке, а благодаря полумесяцу, янычару и спрятанному в слове МЕЧен ятагану (ср. [Мордерер 2010: 219]) актуализируется и другой гипоним того же фразеологизма – ходить по лезвию. Другие фраземы, угадываемые в этом стихотворении, несколько более гипотетичны. Мак бровки, которым мечен путь, подразумевает сравнение тонкой черной (возможно, сурьмленой) брови с пунктирной разметкой посредством маковых зерен, что в сочетании с предшествующим мотивом голода и упоминанием ртов («Их, бесшумно охающих ртами, / Полухлебом плоти накорми») подсказывает идиому маковой росинки во рту не было. В то же время из-за смежности с образом рыб, чьи плавники рдеют, подобно лепесткам мака, образ пунктирной линии, состоящей из маковых зерен, побуждает увидеть намек на фразеологизм метать икру в слове мечен. Подобная концентрация текстуально совпадающих или пересекающихся кодировок при семантически неоднородных декодировках может вызвать не только скепсис, но и насмешку. Я убежден, однако, что в данном случае затертая до неприличия декларация Мандельштама: «Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку» (II, 166), – адекватно характеризует семантическую парадигматику текста. Возможно, ее экспликация в континууме филологического анализа способна вызвать комический эффект, но это лишь свидетельствует о том, что интерпретатору не удалось дистанцироваться от своего предмета на то расстояние, с которого видно, как разнонаправленные побеги смысла сходятся, подобно меридианам, в одной точке затекстового пространства.
78
Пример. «– Лесбия, где ты была? – Я лежала в объятьях Морфея». Возможно, французский вариант буквализируемой здесь идиомы в объятьях Морфея – dansles bras de Morphée – подсказал выбор имени адресата вопроса: Лесбия. То, что стихи датируются 1910-ми гг., когда приемы «поэтического билингвизма», по-видимому, еще не стали интегральной частью мандельштамовской поэтики, с одной стороны, усиливает сомнения в самом наличии тут соответствующего приема, с другой же, при допущении его наличия, может объяснить его нетипичный для Мандельштама графический (а не фонетический) характер. Примечательно, что еще один случай возможной графической импликации иноязычной фраземы относится к тому же периоду – к 1917 г., – см. [Киршбаум 2010: 102].
79
Это проявляется, например, в том, что введение такого микротекста в поэтическую речь требует специальной маркировки – например, в виде его фикционализации как интекста (ср. финал «Четвертой прозы»: «А в Армавире на городском гербе написано: собака лает – ветер носит» (II, 358)) или включения в эксплицитный параллелизм (как в случае с фраземой «[ходить] по грибы»: «Долго ль еще нам ходить по гроба, / Как по грибы деревенская девка?..». – «Дикая кошка – армянская речь…», 1930). Если микротекст представляет собой клишированное искажение нормативной фраземы, его маркировка тем более нуждается в формализации; ср. у Маяковского в «<Неоконченном>»: «Как говорят – инцидент исперчен».
80
По поводу строки «Тараканьи смеются глазища» из эпиграммы на Сталина (1933) О. Ронен замечает: «…редакторы обычно считают это опиской и предлагают слишком очевидную конъектуру “усища”» [Ронен 2007: 245]. Конъектура смеются усища подразумевает метонимическую передачу функции рта – усам, поддержанную фразеологизмом смеяться в усы. У Мандельштама, однако, этот вспомогательный фразеологизм смыкается с литературным клише, устойчивый компонент которого слагается из формулы глаза смеялись и противительного союза (например: «Ее глаза смеялись, но на страстно-алых губах ее не было улыбки». – Ф. Сологуб, «Королева Ортруда», 1909). (Принцип создания подобных парных образов, как и в случае со звуковыми метафорами, заключается в импликации контекстуально более ожидаемого из вариантов, каковым в данном случае безусловно являются усища.)
81
Так, например, в «Поэме без героя» «[з]наки-символы эпохи “1913 года”, как правило, <…> выбираются из репертуара знаков-индексов этой эпохи – частей ее языкового запаса. Метонимия берет на себя функции метафоры, и наоборот, как в мифологическом мышлении». Таким образом, «“языком” [“Поэмы”] (в смысле Соссюра) становится “речь”, т. е. совокупность всех текстов, воспроизведенных на данном языке – в нашем случае на “петербургском поэтическом языке”, а “речь” текста “Поэмы” на некоторых отрезках сводится просто к воспроизведению образцов этого “языка”» [Тименчик 1973: 441–442].
82
Например, как показал А. Г. Мец [2002: 366–367], если в одном случае («Я живу на важных огородах…», 1935) словосочетание чужие люди воспроизводит расхожий фольклоризм, то в другом («Как кони медленно ступают…», 1911) оно представляет собой реминисценцию «Цыган» Пушкина. Обратный пример – определение царственный хищник в значении ‘орел’ по отношению к Анненскому в статье «О природе слова» (1922) (II, 75). Оно дважды встречается у Зенкевича: в «Проводах солнца» (1915) («Медленно с могильников скал / Взмывает седой орел. / Дотоле дремавший впотьмах / Царственный хищник раскрыл / В железный веер размах / Саженный бесшумных крыл»), а до этого – в стихотворении «На Волге» (1910) применительно к человеку (на это стихотворение в связи со статьей Мандельштама уже указывалось: [Лекманов 2000: 632]). С одной стороны, в данном случае нет никаких оснований заподозрить реминисценцию со стороны Мандельштама, с другой же, царственный хищник – расхожая метонимия льва или орла (НКРЯ сообщает о трех случаях ее использования в 1920–1930-е гг. в значениях ‘орел / орлан’ и ‘лев’: в дневнике П. К. Козлова, воспоминаниях К. С. Станиславского и очерке В. К. Арсеньева). Это дает основания исключить вообще какую-либо генетическую связь характеристики, данной Анненскому, с творчеством Зенкевича: мы имеем дело с обычным риторическим клише.
83
Ср.: «Центральные для изучения поэтики Мандельштама понятия контекста и подтекста находят естественную интерпретацию как, соответственно, парадигма и пресуппозиция. <…> Понятие пресуппозиции в литературоведени[и] <…> трактуется <…> как всякий компонент значения текста, который не находит в нем эксплицитного выражения (т. е. подразумевается). <…> Представляется целесообразным рассматривать и подтекст как разновидность семантической пресуппозиции. Можно говорить, что некоторый текст содержит пресуппозицию другого, если его знание является необходимым условием для адекватного восприятия второго текста» [Золян, Лотман 2012: 326–327].
84
Что, в принципе, было предопределено уже самим прототипом термина «подтекст»: «В общем, Станиславский характеризует подтекст как своего рода мотивировку произносимого на сцене текста» [Тарановский 2000, 39].
85
См. [Левинтон, Тименчик 2000: 416].
86
Примеры. 1. Биографический подтекст можно заподозрить в финале переложения CLXIV сонета Петрарки: «Тысячу раз на дню, себе на диво, / Я должен умереть на самом деле / И воскресаю так же сверхобычно» («Когда уснет земля и жар отпышет…», 1933; в оригинале: «E perchè ’l mio martyr non giunga a riva, / mille volte il dì moro e mille nasco: / tanto da la salute mia son lunge!»; в подстрочном переводе И. М. Семенко [1997: 115]: «и чтоб мое мученье не прекратилось [прим. Семенко: “Буквально: не достигло берега”], / тысячу раз в день умираю и тысячу рождаюсь, / столь от исцеленья моего я далек»). Как отмечает И. М. Семенко, Мандельштам в своем переводе «[в] самую любовь вкладывает смысл “чуда”. Вот почему отсвет фантастичности лежал у него на первой строфе. В последнюю же строфу Мандельштам прямо вводит “диво”, “воскресаю”, “сверхобычно”. <…> Тысячекратному переходу от жизни к смерти <…> придан оттенок чуда, которое творит возлюбленная. У Петрарки сказано: “умираю и рождаюсь”; у Мандельштама – “умираю и воскресаю”. Снято традиционное, несколько “куртуазное”, “исцеленье” и введены слова “на самом деле”» [Там же: 117–118]. Можно сделать осторожное допущение, что в текст перевода привнесен намек на известный факт биографии Петрарки, который в 1370 г. в Ферраре в течение полутора суток не подавал признаков жизни и очнулся в преддверии собственных пышных похорон (см., напр., [Campbell 1843: II, 273]). 2. Предлагаемая догадка была высказана мною (в более лаконичной форме) во время прошлогодней гостевой лекции Й. Петровского-Штерна в Иерусалимском университете, посвященной проблеме юмора у Булгакова, и спровоцирована интригующим вопросом, поставленным лектором: почему вызывает смех реплика Ивана Бездомного: «– Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в Соловки!» [Булгаков 1992: 13]. Объяснение, лежащее на поверхности, сводится к тому, о чем далее сообщает Воланд: «…отправить его в Соловки невозможно по той причине, что он уже с лишком сто лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, уверяю вас!» [Там же: 14]. Иными словами, нам должно быть смешно из-за того, что дикая фантазия Бездомного невоплотима, а ему и невдомек. Но этого объяснения все же недостаточно, поскольку что оно не охватывает причину, по которой идея отправки в Соловки прозвучала именно в адрес Канта, а не любой другой давно почившей знаменитости. Можно предположить, что комический эффект обеспечивается биографией Канта, который, как всем известно, ни разу в жизни не отлучался из Кенигсберга (а точнее, как мало кому известно, ни разу не покидал пределы Восточной Пруссии и лишь изредка отлучался из родного города). Домоседство Канта попадает в оппозицию к бездомности Бездомного.
87
Ср. типологию цитатности, предложенную Д. Ораич [1988: 113] для авангардного искусства: цитатность в узком смысле слова: «тексты того же медиального ранга»; автоцитатность: «собственные тексты»; метацитатность: «тексты о текстах (например, теоремы или высказывания о литературе, содержащиеся в программах и манифестах авангардистских движений)»; интермедиальная цитатность; внехудожественная цитатность: «внехудожественные тексты (газетные и документальные материалы <…>; “тексты жизни”, например разговорная реплика О. Мандельштама в стихотворениях А. Ахматовой и наоборот; <…>; живая рыба на полу выставочного зала)».
88
Таковы, например, действительно загадочный гений могил («Стихи о неизвестном солдате»), который О. Ронен [2002: 112] назвал «аллегорическ[ой] перифраз[ой] – кеннинг[ом]», и Мирабо фортепьянных прав («Рояль», 1931) – кеннинг рояля [Иванов В. В. б.г.].
89
На этот мандельштамовский принцип указывали Н. Я. Берковский и, опираясь на его наблюдение, Л. Я. Гинзбург. Так, в «Египетской марке» «у сотенных потому “зимний” хруст, что они русские: Россия – зимние ассоциации», а извозчик наделен овсяным голосом: «лошадь со своим овсом ржет в текст эпитетом “овсяный”, приданным извозчику» [Берковский 1989: 298–299], а в «Tristia» жалобы потому простоволосые, что это «жалобы простоволосых женщин, провожающих на битву мужчин» [Гинзбург 1997: 348]. Ср. о Москве, с перенесением предметного признака предмета (ширины базарных баб) на сам предмет (базары Москвы): «Ее базаров бабья ширина» («Всё чуждо нам в столице непотребной…», 1918; с вариацией процитировано в очерке «Сухаревка» (III, 31) [Тоддес 1998: 333]). Согласно С. Ю. Преображенскому [2001: 200–201], «прилагательное тем охотнее интерпретируется как “метонимическое”, чем меньше оно согласовано с ближайшим контекстом и чем сильнее выражена его согласованность с каким-либо элементом или элементами дальнейшего контекста». О загадочных тропах у Мандельштама см. также [Ронен 2002: 28–30].
90
Воспользуюсь примером из гл. III наст. кн.: «“Александр Иваныч Герцен!.. Разрешите представиться… Кажется, в вашем доме… Вы как хозяин в некотором роде отвечаете… | Изволили выехать за границу? Здесь пока что случилась неприятность… | Александр Иваныч! Барин! Как же быть? Совершенно не к кому обратиться…” (III, 175). Фрагмент отсылает одновременно к “Юбилейному” Маяковского (“Александр Сергеевич, разрешите представиться”) [Толкач, Черашняя 2003: 34–35] и к “Забытой деревне” Некрасова (“Вот приедет барин – барин нас рассудит”)».
91
Сочетание двух таких приемов находим в стихотворении «Длинной жажды должник виноватый…» (1937): кеннинги должник жажды и сводник вина и воды дешифруются одинаково: ‘кувшин’ или, как предлагает комментатор, ‘кратер’ (I, 664). См. также случаи перекрестного обмена признаками между субъектами предикации: [Левин и др. 1974: 63].
92
Примеры. 1. «Мы смерти ждем, как сказочного волка, / Но я боюсь, что раньше всех умрет / Тот [Tod – M.L.], у кого тревожно-красный рот [rot]» [Лотман М. 1997: 59]. 2. «Как парламент, жующий фронду, / Вяло дышит огромный зал <…> Не звучит рояль-Голиаф» («Рояль»). По наблюдению Пины Наполитано, упоминание фронды мотивировано уподоблением рояля Голиафу ввиду исходного значения фр. la fronde ‘праща’ (см. сообщение Ф. Б. Успенского, приводимое в кн. [Золян, Лотман 2012: 173]). И так же, как французская этимология фронды составляет контрарную пару Голиафу, французская этимология рояля (royal ‘королевский’) составляет контрарную пару фронде; на это последнее обстоятельство указывает А. Г. Мец (I, 601). Примечательно, что в первом примере ключевыми словами являются русские семантические эквиваленты зашифрованных иноязычных слов, т. е. собственно отгадки, а во втором – негативные «двойники» этих отгадок. 3. В строках «Отдыхает острый клюв / Той ораторской трибуны» («Ни триумфа, ни войны!..», 1914) острый шифрует фонетически, а клюв и ораторская трибуна – семантически лат. rostrum и rostra [Левинтон 2000: 209].
93
Примеры. 1. Скорби груз вместо скарба грусть («Tristia», 1918): ординарная метафора, синтагматически объединяющая две звуковые (парадигматические) метафоры с перекрестной общностью семантики (соседний элемент синтагмы синонимичен альтернативному элементу парадигмы). Что скорбь намекает на скарб, уже отмечалось: [Левинтон 2005: 237]. Отмечалось также, что в слове скорбь отобразилось название элегии – «Tristia» [Goldberg 2011: 122] и что рифма груз – муз восходит к «Беседке муз» Батюшкова [Тоддес 2008]. 2. «Длинной жажды должник виноватый»: длинной – синоним эпитета долгой, а должник – звуковая метафора того же эпитета. 3. «Где сосна иль деревушка-гнида» («Канцона», 1931): деревушка семантически расщепляется на дерев[о] и в[о]шку; первое порождает сосну, вторая – гниду. Двуединство этого приема усиливается благодаря тому, что семантическое расщепление деревушки не обусловлено ее грамматической структурой: не только звук [в] необходимо участвует в создании каждой из двух производных, но и первая из этих двух производных как бы преобразует звук [у] в [о] (дереву- → дерево), и это преобразование распространяется на вторую производную (-вушка → вошка).
94
Примеры. 1. В «Стихах о неизвестном солдате» тара обаянья расшифровывается как кеннинг черепа благодаря грамматическому параллелизму между содержащим этот образ отрезком текста: «Для того ль заготовлена тара / Обаянья в пространстве пустом, / Чтобы <…>» (в другой редакции: «Для чего ж <…> Если <…>»), – и другим, где череп упоминается эксплицитно: «Для того ль должен череп развиться / Во весь лоб – от виска до виска, – / Чтоб <…>» [Левин 1979: 201]. Но эта же конструкция выполняет и подтекстообразующую функцию, отсылая к реплике Гамлета, рассматривающего череп, которая в переводе А. Кронеберга звучит так: «Неужели питание и воспитание этих костей стоило так мало, что <…>» [Там же]. 2. Имя и отчество Леонида Львовича Царевского, персонажа «Плавающих и путешествующих», интратекстуально мотивируются одно другим благодаря одинаковой семантике, а вместе взятые интертекстуально мотивируют его фамилию и, симметричным образом, мотивируются ею благодаря фраземному подтексту «Лев – царь зверей» [Тименчик и др. 1978: 286]. 3. Пересечение интра– и интертекстуального приемов в словосочетании роговая облатка («Нет, никогда, ничей я не был современник…», 1924) проанализировано в [Ronen 1983: 359–361].
95
Примеры. 1. В словесных портретах Ахматовой Мандельштам возвращается к мотиву спадающего или совлекаемого предмета одежды, каковы шаль («Ахматова», 1914) и платок («Кассандре», 1917). Во втором случае эпитет шалой в сочетании с мотивом срываемого платка отсылает к образу шали в более раннем стихотворении. (При этом самый мотив покрова, совлекаемого с Ахматовой чернью, находит себе прецедент в строках Шилейко «…Истончены ее уборы, / Ее безвинной пелены / Коснулись хищные и воры» [Топоров 1979: 321] из стихотворения 1914 г. «Уста Любви истомлены…», своим зачином, похоже, в свой черед обязанного зачину мандельштамовского «Черты лица искажены…» (1913). Позднее, в статье 1922 г. «О природе слова» срываемая с Ахматовой шаль перейдет к ее давнему образу сравнения – к Федре (II, 75).) 2. Городдремучий («Когда городская выходит на стогны луна…») этимологически обыгрывает образ града, погрузившегося в сон, из пушкинского «Воспоминания» [Тоддес 1994а: 99]. 3. Строка «С широким шумом самовара» («Декабрист», 1917) «каламбурна: первые два слова <…> обыгрывают пушкинский эпитет в концовке “Поэта” <…>: “В широкошумные дубровы” <…>; составной морфологии эпитета и связанной обычно с ней высокой (“гомеровской”) стилистической окраске пародически соответствует у Мандельштама слово “самовар”, также двукорневое и противоположной стилистической принадлежности [Там же: 98–99]. (Я не воспроизвожу здесь аргументацию Е. А. Тоддеса в пользу установленного подтекста; она безупречна.) 4. «Летейская стужа в “Сумерках свободы” и лед стигийского звона в ст. “Я слово позабыл…” представляют собой результат перекрестного смещения глубоко аллитерирующих сочетаний стигийская стужа – летейский лед» [Ронен 1989: 293]. 5. «… мотив кующих цикад, восходящий, как показал К. Ф. Тарановский <…>, к <…> стихам Иванова <…> основан, видимо, на сопоставлении цикады и “ее поэтического родственника – кузнечика” и осмыслении внутренней формы русского названия кузнечика (кузнец – ковать)» [Левинтон 1977: 126]. 6. Уже цитированная выше строка «Пугает лай собак и ветер косит» сочетает в себе звуковую метафору и расподобленную фразему. 7. В «Нет, не спрятаться мне от великой муры…», написанном в апреле 1931 г., определение Москвы – курва – представляет собой метатезу слова рукав из написанных незадолго до того, в марте, «Волка» и «Ночь на дворе. Барская лжа…». 8. «…И я как дурак на гребенке / Обязан кому-то играть. <…> Чесатель колхозного льна <…>» («Квартира тиха, как бумага…», 1933) ← «Вот и Фонтанка – <…> Лорелея вареных раков, играющая на гребенке с недостающими зубьями <…>» («Египетская марка», 1927) (II, 283) (сам по себе параллелизм двух мест, разумеется, отмечался: [Мандельштам 2012: 222]).
96
Примеры. 1. «И всегда одышкой болен / Фета жирный карандаш»: обыгрывание немецкого омонима фамилии Фета сочетается с аллюзией на стихотворение «Когда дыханье множит муки…» и, возможно, на предсмертные карандашные поправки в его тексте [Ронен 2002: 37]. 2. Выше упоминалось, что тревожно-красный рот («От легкой жизни мы сошли с ума…», 1913) намекает на нем. Rot ‘красный’ [Лотман М. 1997: 59]; вместе с тем все словосочетание целиком отсылает к строке Ахматовой «Мой рот тревожно заалел…» («Надпись на неоконченном портрете», 1911) [Тоддес 1998: 328–329]. Другие примеры, которыми я располагаю, малодоказательны. К ним относится возможный полуфонетический-полуграфический намек на исходную французскую идиому, заключенный в имени Лесбия в эпиграмме «Лесбия, где ты была…» (см. выше).
97
Примеры. 1a. «Длинной жажды должник виноватый, / Мудрый сводник вина и воды» (1937): Длинной ← [долгой] ← [долг] ← должник (первичен в этой цепочке, по-видимому, кеннинг ‘кувшин – должник жажды’). 1b. Виноватый ← вина; сводник ← воды. 1c. Беда ← [обида] ← ободу; беда ← [трагедия] ← [козлиная песнь] ← пляшут козлята (но см. здесь же и интерлингвистический прием: [Городецкий 2008: 289]). 2. В словосочетании «паяльных звуков море» («Пароходик с петухами…», 1937) прилагательное паяльных квазиэтимологически возводится к глаголу поить за счет соседства со словом море. Прием повторен в следующей строфе, где фраза «Не изволил бы в напильник / Шею выжать гусь» построена на семантической дополнительности слов напильник и выжать: напильник квазиэтимологически переосмыслен в качестве субъекта действия «напиться», а слово выжать употреблено в своем нормативном значении. Удвоение приема обеспечивает его расшифровку.
98
Пример. По известной догадке Р. Д. Тименчика, сообщаемой Г. А. Левинтоном [1979: 33], в строке «Есть блуд труда, и он у нас в крови» («Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…», 1931) слово блуд омонимично немецкому Blut, русский семантический эквивалент которого – кровь – спешит появиться в тексте. Этим, однако, прием не исчерпывается; как отметил М. Безродный [2011: 370–371], в слове труда начальный звук т сливается с конечным звуком т (оглушенным д) в предшествующем слове блуд, и за счет этого активизируется звучащий остаток – руда, омонимичный слову руда – русскому синониму слова кровь, традиционно появляющемуся в поэзии в паре с ним: кровь-руда.
99
О. Ронен писал еще в статье 1970 г.: «Мотивированность мандельштамовского слова проявляется уже в таком характерном приеме, как анаграмма, соединяющая самый низкий, графический уровень текста с высшими уровнями плана содержания» [Ронен 2002: 16].
100
Впрочем, И. М. Семенко делает оговорку: «Между тем в произведениях, создававшихся одновременно со “Стихами о неизвестном солдате”, не раз трактуется в совсем противоположном духе тема “небо – человек”. В этом Мандельштам все-таки верен себе <…>» [Семенко 1997: 93].
101
В числе других примеров И. М. Семенко приводит следующие: «В сонете CCCI <…> у Петрарки vita – gita; у Мандельштама (<…> в том же положении!) гранита – мыта. <…> В сонете CLXIV <…> рифмам viva – riva точно соответствуют разноречива – диво. <…> Сравним также занимающие те же позиции в стихе звуки в словах: piágne… fíglí – славит… бли`зки`х; et tútta nótte – и всю`-то нóчь <…>. Misero – милости; leggiádro – легких склáдок; bene, serene, spene, tene – на тех же местах у Мандельштама оленей, наслаждений, обольщений, сплетений (сонет CCCXIX). Даже ancora и dimora ассонируют с хмуря, буря. В CLXIV сонете, в третьей и четвертой строфах, в оригинале сильно звучит слог «mi» в словах mi, mio, mia, mille, и Мандельштам вводит свое не предусмотренное по смыслу “милая”!» [Семенко 1997: 122–123]. Наблюдения И. М. Семенко над переводом сонета CCCI были дополнены Т. Венцлова [1997: 178–179].
102
Пример. Как известно, Н. Я. Мандельштам попыталась дезавуировать финальную строку стихотворения «Если б меня наши враги взяли…» (1937): «Будет будить разум и жизнь Сталин». По ее версии, у Мандельштама вместо «будить» было «губить». Даже с учетом столь характерных для Мандельштама семантической амбивалентности и путаницы в прагматически (и особенно идеологически) мотивированных высказываниях, данный случай весьма напоминает примечание, которым Козьма Прутков снабдил начальные строки стихотворения «Мой портрет». Вопреки мнению А. Г. Меца (I, 631), вариант «губить», по-видимому, принадлежит Н. Я. Мандельштам и датируется 1950-ми годами. Однако, если не считать указаний на то, что вариант «губить» не подтверждается сохранившимися списками, все опровержения сводятся к тому, что он «опрокидывает смысл и <…> плохо вяжется с предшествующим (“прошелестит спелой грозой Ленин”)» [Струве Н. 1988: 104]. Да и не так уж трудно представить себе иную редакцию, в которой «губить» не звучало бы абсурдно с точки зрения смысловой прагматики. Зато с точки зрения имплицитной мотивированности этот вариант принципиально невозможен. Стихотворение построено на так называемых образах в квадрате (наиболее известных по «Стихам о неизвестном солдате», которые были написаны вскоре) и их менее строгих подобиях: бытие будет, судия… судит и пр. В финале параллелизм имен Ленина и Сталина продолжен в рифмующихся с ними сегментах, семантически связанных с будущим временем, бессмертием и т. п.: Ленин образует пару со словосочетанием избежит тленья (эта парность поддерживается ассоциациями с телом в Мавзолее), а Сталин – со словосочетанием пламенных лет стая и вдобавок заставляет «сдетонировать» более раннюю клаузулу стали б, которая «повисла» без рифмы (если не считать тоже незарифмованную клаузулу первого стиха – взяли), и перестали во втором стихе. В этом контексте будить составляет «образ в квадрате» с будет (будет будить), сообщает имени Сталин квазиэтимологическую связь с глаголами перестали и стали и благодаря этому довершает параллелизм Ленина и Сталина как пророков, принадлежащих грядущему.
103
Это удобно продемонстрировать на примере слов о «Правд[е] горлинок <…> и кривд[е] карликовых / Виноградарей в их разгородках марлевых» («Я молю, как жалости и милости…», 1937). М. Л. Гаспаров комментирует: «…правда – в природе, кривда – в частной собственности. (По той же причине и воздух, став “денежным”, становится “обиженным”» [Гаспаров М. 1996: 54–55]. Это утверждение, разумеется, небезосновательно (дальше в стихотворении пойдет речь о французских восстаниях и революциях), но оно однобоко. Во-первых, «Я молю…» написано непосредственно после «Стихов о неизвестном солдате», и эпитет марлевых происходит от марне вой- из бродячей строки «Виноградники в марне войны», не вошедшей ни в одну из редакций «Стихов» (ср. написание марны – этого топонима в значении хрононима – со строчной буквы). (Замечание Г. А. Левинтона [1998: 750] о том, что фраза о виноградарях анаграммирует упоминаемые далее Арль и Чарли: кАРЛиковых, мАРЛевых и пр., – представляется не вполне точным: она их скорее порождает.) Думается, и разГОРОДки произведены от виноГРАДарей, а не наоборот. Следовательно, каков бы ни был смысл обсуждаемого образа, генетически он вторичен по отношению к его словесному и звуковому составу. Во-вторых, в марне войны – это, в свой черед, надстройка над банальным словосочетанием «в мареве войны». Эта звуковая метафора подсказывает, что карликовые виноградари и разгородки марлевые (т. е., с одной стороны, просвечивающие, непрочные, а с другой, при учете указанного И. Ю. Подгаецкой [Там же: 55] предполагаемого подтекста «виноградной темы» в ее военном изводе в стихах 1937 г. – стихотворения Аполлинера «Виноградарь из Шампани», – родственные перевязочным бинтам) представляют собой не только и не столько мелкобуржуазный пережиток на фоне перспективы бесклассового братства людей, сколько ненадежное, эфемерное укрытие от оптовых смертей и братских могил. Их кривда – синоним этой эфемерности, а не порочности социального уклада. Вот почему этой кривды поэт вымаливает, как жалости и милости, наравне с правдой.
104
Ср.: «…смысловое поле в целом, а не один его край, не один полюс оппозиции, а оба, одновременно оказываются причастны тому или иному “концепту” мандельштамовской “поэтической идеологии”. (Мы не рассматриваем сейчас конкретной эволюции взглядов Мандельштама: важно отметить саму тенденцию к инверсии, к инверсности как таковой, к самой перестановке полюсов, независимо <…> от определенной приверженности к одному или другому из них в тот или иной период.) <…> причастность к одному полюсу делает возможной (и почти неизбежной в рамках поэтики Мандельштама) причастность к полюсу противоположному» [Барзах 1999: 250].
105
Ср. мандельштамовскую программу, как ее реконструирует Г. Фрейдин на основе рецензии Мандельштама (1913) на «Фамиру-Кифареда» Анненского: «If you wish to be a poet, he suggests, you must be torn – whether between “woman and stars” (ultimately, your “mother” and the stars) or between a given and a desired identity. As soon as this conflict is resolved, you cease to “hear music,” becoming as an artist both dead and blind. <…>» [Freidin 1987: 58–59]. Еще в письме Иванову из Монтрё от 13 (26) августа 1909 г. с отчетом о впечатлениях от его свежеизданной книги статей «По звездам» Мандельштам упрекал мэтра в нейтрализации трагического напряжения: «…мне показалось, что книга слишком – как бы сказать – круглая, без углов. | Ни с какой стороны к ней не подступиться, чтобы разбить ее или разбиться о нее. | Даже трагедия в ней не угол – потому что вы соглашаетесь на нее. | Даже экстаз не опасен – потому что вы предвидите его исход» (III, 361). Современная метатеоретическая критика ивановского учения согласна с Мандельштамом, когда констатирует подмену Ивановым трагической коллизии мистериальным циклом (см., например, [Фридман 1999: 269–279]).
106
Одновременно можно допустить бессознательную ориентацию Мандельштама на еврейский сакральный дискурс и прежде всего – на сюжетную диалектичность Пятикнижия: «…в конечном счете сюжетные ходы Пятикнижия строятся по принципу обращенной триады. Синтетическое исходное положение скрывает в себе две противоположные тенденции, получающие сюжетное развитие: антитезис и тезис» [Вайскопф 1984: 201]; «…в каждом конкретном рассказе его исходный мотив повторяется, но в контрастном, симметрическом оформлении» [Там же: 202]; «…любые <…> сюжеты в Пятикнижии <…> обусловлены изначальной логической организацией текста и подчиняются закону снятия первого элемента последовательности, задаваемой исходной ситуацией» [Там же: 207].
107
Ср. в записи П. Н. Лукницкого от 8 июля 1926 г.: «АА говорит, что не может понять в Осипе одной характерной черты: статья по благородству превосходна. Но в ней Осип Мандельштам восстает, прежде всего, на самого же себя, на то, что он сам делал и больше всех. То же с ним было, когда он восстал на себя же, защищая чистоту русского языка от всяких вторжений других слов, восстал на свою же теорию, идею об итальянских звуках и словах в русском языке (его стихотворения – итальянские арии). Трудно будет его биографу разобраться во всем этом, если он не будет знать этого его свойства – с чистейшим благородством восставать на то, чем он занимался, или что было его идеей». Не облегчил задачу биографа и опыт 1930-х гг., когда в Мандельштаме уживались тираноборец и сталинист, пацифист и милитарист, зовущий на «последний, решительный бой» (по определению О. Ронена [2002: 101]). Стоя одновременно на крайних точках идеологической оси, Мандельштам под влиянием исторических, биографических и медицинских обстоятельств лишь перемещал вес на ту или другую из них. Впрочем, это относилось не только к идеологии, но к любому выбору, если только он не был предрешен фундаментальными понятиями о добре и зле. Например, Б. С. Кузин вспоминает: «…В то время я еще недостаточно привык к тому, что решения, принимаемые О.Э., почти наверное заменяются противоположными. Твердо решив остаться в Армении, Мандельштамы, конечно же, должны были вскоре приехать в Москву» [Кузин, Мандельштам 1999: 166].
108
Например, в статье «Конец романа» он не только упорно путает понятия центробежной и центростремительной силы («тяги»), но и даже непосредственно объясняет значение второй из них с точностью до наоборот: «центростремительная тяга, тяга от центра к периферии» (II, 122). Автору не указали на его ошибку ни редакторы трех прижизненных публикаций, ни жена, переписавшая текст. Так печаталось (и никогда не комментировалось) и во всех доступных мне посмертных изданиях, кроме одного, где формулировка отредактирована (без пояснений): «центростремительная тяга, тяга от периферии к центру» [Мандельштам 1990а: II, 203]. Но это внесло еще большую путаницу, так как по контексту следовало бы менять не формулировку, а термин: «центростремительная» на «центробежная».
109
Как отмечает Ю. И. Левин, у Мандельштама «сквозь отрицание просвечивает утверждение (в конструкции со словом несладкий работает семантика “сладкого”)» [Левин 1998: 63].
110
Ср. у раннего Мандельштама образы качелей, маятника и т. п. О принципе равновесия в эстетической программе акмеистов, в частности, упоминает мимоходом Б. М. Эйхенбаум [1969: 84]. Подробно о нем см. [Лекманов 2000: 75 сл.]. О нем же в мифопоэтике Ахматовой см. [Сошкин 2014: 71–75]. О трагически-биполярном изводе этого принципа в зрелом творчестве Мандельштама см., в частности, [Хазан 1992: 35–36].
111
См., например, альтернативные интерпретации стихотворения «Где ночь бросает якоря…» (как направленного против белых либо красных) в зависимости от того, датируется ли оно 1918 или 1917 годом (соотв.): [Тоддес 1991: 38].
112
Ср., например, вывод Е. А. Тоддеса о теперь уже неочевидной характерности для рубежа веков идеологической платформы Мандельштама периода его отрочества, сочетавшей марксистские и христианские увлечения и вновь мобилизованной им в начале 20-х [Тоддес 1991: 36].
113
Именно в таком индикативном режиме следует, как я полагаю, использовать реконструкцию идеологической программы Мандельштама на основе его теоретических текстов, предпринятую в замечательной работе Е. А. Тоддеса [1988].
114
Даже в критической прозе начала 1920-х гг., когда в ходу была интеллектуальная стратегия, следуя которой, Мандельштам «делает идеологическими синонимами» «то, что можно было бы назвать идеологическими омонимами» [Тоддес 1991: 41–43], он, в отличие от большинства своих современников, занятых сознательными или бессознательными манипуляциями, скорее просто идет от материала, т. е. руководствуется поэтической логикой. О примате материала в эстетике Мандельштама см. [Илюшин 1990: 372–373].
115
Ср.: «…интертекстуально повернутая теория литературы взяла бы за точку отсчета неопосредованный медиаторами контакт между литературными произведениями и тем самым освободила бы моделирование художественного мышления от мифогенного наследия. Это не означает, конечно же, что новая теория литературы будет игнорировать социологические, психологические и антропологические проблемы словесного творчества. Все три названные прочтения текста могут и должны присутствовать в ней, однако не а priori, но а posteriori» [Смирнов 1995: 67].
116
Ср.: «К. Ф. исходит из предположения о мотивированности всех элементов стихов Мандельштама, причем мотивация может лежать вне текста, прежде всего – в ином тексте. Этот мотивирующий текст и является подтекстом данного, анализируемого текста. Цитация здесь рассматривается не в психологических терминах: “воздействие”, “впечатление” или “подражание”, но как явление семантическое, цитата становится мотивацией, разгадкой непонятного или непонятого стихотворения» [Левинтон, Тименчик 2000: 404]. Вообще говоря, идея тотальной мотивированности происходит от концепции контекста, а не подтекста. Ср.: «В противоположность подтекстуальному механизму, “укрупняющему” цитируемую единицу до уровня целого текста, контекстуальный анализ рассматривает каждое отдельное словосочетание и даже слово как (авто)цитацию <…>» [Золян, Лотман 2012: 320].
117
Ср. замечание М. Ю. Лотмана по поводу анализа двух «Сеновалов» у Тарановского: «Показательно, что те строфы, для которых не удается найти надежных подтекстов и контекстуальных соответствий, представляют существенные проблемы при интерпретации, хотя с точки зрения “замкнутого” анализа или общеязыковой семантики они ничуть не более сложны» [Золян, Лотман 2012: 321].
118
Даже у Ронена порой можно встретить и просто несостоятельные гипотезы, по каким-то субъективным причинам не отбракованные ученым, но едва ли такие случаи могут иметь значение для общей оценки метода.
119
Ср. отмеченные солипсизмом рассуждения соавторов в 1978 г., вызванные «принципиальн[ой] установк[ой] не только акмеистического текста на подтекст, но и читателя этого круга на поиски такового. Текст самой культурной установкой провоцирует читателя на эти поиски, и акмеистическое произведение тем самым на уровне подтекстов осуществляет свою “смыслоуловительную” функцию и расширяет семантические границы далеко за пределы не только интенции автора, но и его осведомленности, и, вообще, возможной осведомленности одного человека (будь то автор, читатель или исследователь), так что конкретный подтекст в каком-то смысле становится лишь конкретным (и – парадоксальным образом – в конечном счете факультативным) проявлением этого принципа» [Левинтон, Тименчик 2000: 415].
120
См. сказанное ранее по поводу цитации, распознаваемой автором ретроспективно.
121
См. [Ахматова 1990: II, 166].
122
А также и другие, более изысканные формы расфокусированной или рикошетной межтекстовой адресации. Примеры таких сложных интертекстуальных построений, как цитация цитаты с ошибочной атрибуцией в тексте-посреднике именно ради этой ошибочной атрибуции [Тименчик 1997: 95] и др. под. (помимо указанной публикации Р. Д. Тименчика см. заметку Г. А. Левинтона [1972]), заставляют подозревать, что дефиниции, которыми мы оперируем, в какой-то мере носят методический характер. Нужно, впрочем, отметить, что мандельштамовская техника обращения с подтекстами – не самая затейливая; в частности, она однородней и предсказуемей, чем ахматовская. Ср. разнообразие способов маскировки цитации у Ахматовой: [Тименчик 1975: 124–125]. Ср. еще: «В обычное представление о том, что цитата приносит с собой в цитирующий текст всю полноту своих былых контекстуальных ассоциаций, следует, применительно к случаю Ахматовой, внести одно уточнение – одновременно цитата как бы настойчиво подчеркивает именно свою вырванность из этого контекста. Она может демонстрировать свое небрежение к духу и букве того эпизода, в который она входит в источнике, она напоминает о своей случайности и необязательности. Она возникает иногда как аргумент начетчицы, но может быть и нечаянностью, как в гадании по Библии» [Тименчик 1995].
123
Прим. Г. А. Левинтона: «Более того, можно полагать, что чаще цитируются уже цитированные тексты (что может, в частности, объясняться чисто мнемонически)» [236].
124
Так, в группе стихотворений «Камня» «[к]онструируется “образ” “чужой” поэтической системы» – тютчевской [Тоддес 1974: 4], которая в этом случае выступает суммарным подтекстом, можно даже сказать – узнаваемым прототипом (ср. [Левинтон 1977: 221]). Цитированная работа Е. А. Тоддеса содержит образцовый анализ такого конструирования.
125
Эти шесть трансформационных операций суть следующие: «(а) включение данного элемента в качестве подмножества в новое множество (<…> [т. е.] расширение смыслового объема отправного [понятия] <…>); | (b) вычитание подмножества из исходного множества элементов (<…> [т. е. сужение смыслового объема отправного понятия]); | (с) сложение элементов, в процессе которого старый и новый термы или же термы, раздельные в источнике, согласуются между собой <…>; | (d) непустое пересечение замещающих и замещаемых элементов (<…> именно на непустых пересечениях основываются интертекстуальные контрасты, в том числе цитаты-антитезы); | (е) совпадение данных элементов с элементами создаваемого текста (в этом случае интертекстуальная трансформация элементов равна нулю, и тогда превращению может подвергаться их связь <…>); | (f) пустое пересечение старых и новых элементов (это интертекстуальное преобразование ведет к аннулированию каких-либо слагаемых источника <…>)» [Смирнов 1995: 64–65]. В терминологии З. Г. Минц (предложенной в ее посмертной публикации 1992 г.) части пункта (с) соответствует склеенная цитата, а части пункта (е) – разорванная цитата (термин, восходящий к О. Брику), где «целостный кусок цитируемого текста отображен на нескольких фрагментах цитирующего» [Минц 2004: 336]. К пункту (е) относятся и всевозможные варианты обмена признаками. Что касается остальных четырех вариантов, то они подразумевают наличие парного элемента, воспроизводимого в цитирующем тексте без изменений. Например, случай (b) можно проиллюстрировать с помощью силлогизма Кизеветтера: «люди смертны» → («Кай – человек») → «Кай смертен»; цитируемый текст будет содержать утверждение о том, что люди смертны, а цитирующий – о том, что Кай смертен, т. е. один исходный элемент будет замещен его подмножеством («люди» → «Кай»), а другой – воспроизведен без изменения смыслового объема («смертны» → «смертен»). В случае (а), наоборот, одно исходное понятие будет замещено более широким («Кай» → «люди»), а второе останется неизменным («смертен» / «смертны»). Пункты (d) и (f), грань между которыми представляется весьма зыбкой, охватывают, в частности, те случаи, когда цитирующий текст стремится «обогнуть» или обыграть влиятельный промежуточный источник; сюда же, по-видимому, следует отнести антипародию, по терминологии О. Ронена [2000].
126
Так, в «Заклятии смехом» один повтор прекращен другим повтором: «…смешики, смешики, / Смеюнчики, смеюнчики».
127
Примеры. 1. «Как овцы, жалкою толпой / Бежали старцы Еврипида. / Иду змеиною тропой, / И в сердце темная обида» (1914). Как показал О. А. Лекманов, рифмой ‘Еврипида – обида’ эти строки отсылают к стихотворению Гумилева «Памяти Анненского» <1912> («В них плакала какая-то обида, / Звенела медь и шла гроза, / А там, над шкафом, профиль Эврипида / Слепил горящие глаза»), а мотивом бегства старцев Еврипида – почти эксплицитно к трагедии Еврипида «Геракл», релевантный фрагмент которой в переводе Анненского звучит так: «Корифей. Ба! что это? / Иль буря новая грозит нам, старцы? / Смотрите, призраки над домом поднялись… Один из хора. Беги! Беги! / Ох, уносите ноги, старые, беги!» [Лекманов 2000: 112]. 2. «И раскрывается с шуршаньем / Печальный веер прошлых лет <…>» («Еще далеко асфоделей…», 1917). Мандельштам синтезирует генетически никак не связанные один с другим подтексты. Первый – «Воспоминание» Пушкина: «Воспоминание безмолвно предо мной / Свой длинный развивает свиток» (ср. еще: «Воспоминание <…> Свой длинный развивает свиток» → «Влачится <…> Огромный флаг воспоминанья»; «Полупрозрачная <…> ночи тень» → «Прозрачно-серая весна»; «влачатся в тишине» → «Влачится траурной каймой»; «мечты кипят» → «кипит волна»; «строк печальных» → «печальный веер»). Второй – бергсоновский образ сложенного веера как модель истории [Бергсон 2001: 46 и др.], упоминаемый Мандельштамом в статье 1922 г. «О природе слова» (II, 65; 76); параллель к стихам 1917 г. отмечена в комментарии к этой статье (II, 506). 3. «Может быть, века пройдут, / И блаженных жен родные руки / Легкий пепел соберут» («В Петербурге мы сойдемся снова…», 1920) – «строки, в которых целый ряд исследователей отмечали цитацию финала пушкинского послания 1817 года “Кривцову” <…> А. А. Морозов, впервые указавший здесь перекличку с Пушкиным, одновременно указал и на Блока: “Размету твой легкий пепел / По равнине снеговой” (“На снежном костре” <…>). Метонимический ход, связывающий пепел с рукой женского персонажа, сближает Мандельштама с Блоком, “соберут”, в противоположность “размету”, – с Пушкиным» [Тоддес 1994а: 97]. 4. «Словно вся прапамять в сознание / Раскаленной лавой текла, / Словно я свои же рыдания / Из чужих ладоней пила» (А. Ахматова, «Это рысьи глаза твои, Азия…», 1945). Эти строки восходят к двум мандельштамовским подтекстам. Первый – «Стихи о неизвестном солдате»: «И сознанье свое затоваривая / Полуобморочным бытием, / Я ль без выбора пью это варево, / Свою голову ем под огнем?» (прапамять ← полуобморочным бытием; сознание ← сознанье; раскаленной ← огнем; лавой текла ← варево; я свои же рыдания… пила ← свою голову ем). Второй – тоже из третьей воронежской тетради: «Нереиды мои, нереиды! / Вам рыданья – еда и питье <…>». 5. В стихотворении «Отчего такой мороз?» (1939) Т. Чурилин комбинирует легко узнаваемые элементы двух источников – «Шинели» Гоголя и «Крещенских морозов» Некрасова (из цикла «О погоде»): «Свиреп, рассвирипел еще как / Мороз и заскорузил щеки. / Дерет, дерет по коже щеткой, / А по носу – щелк, щелк, щелк – щелкает! / Мороз пылает – он не старец, / Он наш советский раскрасавец! / Людей по-нашему бодрит, / Лишь нос и щеки три, три, три!! / Он ветром северным “Седову” / Помог с братком обняться поздорову. / Ну, тут все выпили по малу, / Морозу ж капли не попало. / Всё по усам и растеклось / И превратилось во стекло. / Ну, тут мороз рассвирепелся, / Пары наддал и в холку въелся. / Да как пошел щелкать по носу / И капитану, и матросу, / И гражданину СССР, / И мне, поэту, например. / Щелкал, щелкал, устал – и бросил. / А слезы наши – заморозил. / Но это пиру не помеха: / Мы все и плакали от смеха». С текстом Гоголя эти стихи пересекаются персонификацией мороза, щелкающего людей по носу, формулами наш мороз и наш раскрасавец (о морозе), определением мороза / его атрибута (ветра) северный, однокоренными сегментами здоров и поздорову (ср.: «Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья, или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя впрочем и говорят, что он очень здоров. В девятом часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их» [Гоголь 1937–1952: III, 147]). С текстом Некрасова – императивной рекомендацией тереть нос (и щеки) для защиты от мороза наряду с упоминанием другой меры – возлияний; щеки Некрасов тоже упоминает наряду с носом, но только в качестве индикаторов благотворного воздействия водки, а не объектов растирания («“Государь мой! куда вы бежите?” / – “В канцелярию; что за вопрос? / Я не знаю вас!” – “Трите же, трите / Поскорей, бога ради, ваш нос! / Побелел!” – “А! весьма благодарен!” / – “Ну, а мой-то?” – “Да ваш лучезарен!” / – “То-то принял я меры…” – “Чего-с?” / – “Ничего. Пейте водку в морозы – / Сбережете наверно ваш нос, / На щеках же появятся розы!”»). Общим признаком двух классических текстов, которым обеспечивается их преинтертекстуальная связь, является тематизация удела бедных петербургских чиновников, страдающих от утреннего мороза из-за необходимости преодолевать пешком расстояние между своим жилищем на окраине и местом службы в центре города (ср.: «В девятом часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент»; «“<…> куда вы бежите?” / – “В канцелярию <…>”). 6. «Я был из тех – московских / вьюнцов, с младенческих почти что лет / усвоивших, что в мире есть один поэт, / и это Владим Владимыч; что Маяковский – / единственный, непостижимый, равных – нет / и не было; / всё прочее – тьфу, Фет» (Я. Сатуновский, 1950-е). Финальная строка контаминирует начало уже упоминавшегося выше «Надоело» Маяковского («Не высидел дома. / Анненский, Тютчев, Фет») и финал «Искусства поэзии» Верлена в переводе Брюсова («Все прочее – литература!»; опубл. в кн. [Верлэн 1911: 98]) или Пастернака («Все прочее – литература»; опубл. в журн. «Красная новь», 8/1938). (Междометие тьфу мотивировано именем Фет как инверсия его консонантов и их признаков – мягкости/твердости; прием стилизован под характерную футуристическую манеру дискредитации с помощью псевдоэтимологии имен собственных). 7. «Не тихой бедности но нищеты роскошной / ищу забыть приметные поля / пусть: я лежу в земле, а воздух и земля – / как две страницы склеились оплошно» (А. Горенко, 1998). Первая строка парафразирует строку Мандельштама «В роскошной бедности, в могучей нищете» («Еще не умер ты. Еще ты не один…», 1937), а последующие – стихотворение «Да, я лежу в земле, губами шевеля…» (1935). Без учета обоих подтекстов нельзя понять, что, видя в линии горизонта смертный рубеж, Горенко «склеивает» предсмертное бытие (Еще не умер я) с замогильным (Да, я лежу в земле) [Сошкин 2005: 50]. 8. Примером непроизвольного преинтертекстуального решения может служить разобранное выше совмещение в предсмертном стихотворении Сологуба программной отсылки к «Рыцарю бедному» и заведомо автоматического заимствования из «Леопарда» Гумилева. 9. Пример изощренного удвоения конструкции из двух фразем, «прекращающих» друг друга в виде двух оксюморонов – одного эксплицитного, а другого имплицированного в подтексте, являет собой название Мертвые души: Поэма. Оксюморон мертые души представляет собой синтез двух оппозиционных фразем, субъекту одной из которых присваивается предикат другой: мертвые тела и бессмертные души. Каждая из этих исходных фразем повторена в названии гоголевского произведения, но таким образом, что повтор одной прекращен повтором другой. Хиастический двойник мертвых душ – бессмертные тела. Соответствующий интратекстуальный параллелизм обнаруживается в первой редакции «Мертвых душ», где обладателем бессмертного тела без души закономерным образом оказывается владелец мертвых душ: «Собакевич слушал с тем же флегматическим видом и совершенным бесстрастием. Казалось, в этом теле вовсе не было души, или, лучше, она у него была, но вовсе не там, где следует, а как у бессмертного Кощея где-то за горами и закрыта такою толстою скорлупою, что все, что ни ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого потрясения на поверхности его лица» [Гоголь 1937–1952: VI, 291]. Вся эта конструкция воспроизводится в подзаголовке: поэма [в прозе] синтезирует два ординарных феномена – поэму [в стихах] и роман [в прозе]. Хиастический двойник этого подзаголовка – роман в стихах. Как известно, интертекстуальный параллелизм двух подзаголовков удостоверяется сообщением Гоголя о том, что Пушкин ему «отдал <…> свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то в роде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет Мертвых душ» [Там же: VIII, 440].
128
Например, стихотворение Г. Иванова «Музыка мне больше не нужна…» (1931) пародирует мандельштамовское, в свой черед пародийное по отношению к символистам, «Ни о чем не нужно говорить…» (1909). Пародийность в данном случае, указывает Е. А. Тоддес, поддержана заключающей текст Иванова «несомненной реминисценцией последней строки стихотворения Фета “А. Л. Бржеской” <…>. Перед нами случай, описываемый известным утверждением Тынянова: “пародией комедии может быть трагедия”» [Тоддес 1998: 304].
129
Например, Е. А. Тоддес [1974: 25] показывает, как в некоторых стихотворениях Мандельштама (в частности, в «Лютеранине», 1912) «“диалог” и “полемика” с одним текстом Тютчева ведется <…> посредством другого его текста».
130
По определению Г. А. Левинтона [1977: 127].
131
Пример. В заметке Мандельштама «Борис Пастернак» (ред. 1923) сказано: «Величественная домашняя русская поэзия Пастернака <…> бесстильна потому, что захлебывается от банальности классическим восторгом цокающего соловья. Да, поэзия Пастернака – прямое токование (глухарь на току, соловей по весне), прямое следствие особого физиологического устройства горла, такая же родовая примета, как оперенье, как птичий хохолок. | Это – круто налившийся свист, | Это – щелканье сдавленных льдинок, | Это – ночь, леденящая лист, | Это – двух соловьев поединок» [Мандельштам 1993–1999: II, 301–302]. Формально Мандельштам откликается на книгу «Сестра моя – жизнь», откуда и берет стихи с образами щелканья льдинок и поединка двух соловьев (глухарь же на току явился из статьи Пастернака «Несколько положений» (1922) [Флейшман 2003: 15]). Но написанная чуть позднее статья «Vulgata (Заметки о поэзии)» (ред. 1923) показывает, что для Мандельштама щелканье – признак самих соловьев, который он переносит в равной мере на Языкова (ср. еще в статье 1914 г. фразу о Чаадаеве, «освистанн[ом] задорным Языковым» (II, 28)) и Пастернака: «Современная русская поэзия не свалилась с неба, а была предсказана всем поэтическим прошлым нашей страны, – разве щелканьем и цоканием Языкова не был предсказан Пастернак, и разве одного этого примера н[е д]остаточно, чтоб показать, как поэтические батареи разговаривают друг с другом перекидным огнем, нимало не смущаясь равнодушием разделяющего их времени?» [Мандельштам 1993–1999: II, 298]; «Русский стих насыщен согласными и цокает, и щелкает, и свистит ими» [Там же: 299]. Думается, Мандельштам держал в уме стихотворение Пастернака «Разрывая кусты на себе, как силок…» (1919) с по-языковски щелкающим соловьем, отсутствующее в рецензируемой им книге, но встретившееся ему на страницах альманаха «Булань» (1920), содержание которого указывает на высокую вероятность мандельштамовского с ним знакомства (между прочим, напечатанное там «Сыновеет ночей синева…» Хлебникова отозвалось потом в «Гончарами велик остров синий…» [Левинтон, Тименчик 2000: 413]). Стихотворение Пастернака, впоследствии названное «Маргарита», продолжает старинную поэтическую традицию описания соловьиного пения посредством нагромождения глаголов (см. [Безродный 2014]); впоследствии Мандельштам внесет в нее свой вклад переложением CCCXI сонета Петрарки («Как соловей, сиротствующий, славит…») с длинным перечнем глагольных предикатов соловья. В рамках этой традиции «Маргарита» обнаруживает особую близость с языковским «Вечером» (1826). Помимо соответствующих глагольных серий с одним лексическим совпадением (Языков, дважды: «И трелил, и вздыхал, и щелкал соловей»; Пастернак, редакция «Булани»: «Бился, щелкал, царил и царил соловей»), оба текста заканчиваются повтором уже звучавшего ранее стиха, оба изображают влюбленных, передвигающихся по лесу среди кустов. Вероятно, вопрос о том, действительно ли «Вечер» приходится «Маргарите» непосредственным подтекстом, оставляет место для споров, но у Мандельштама на этот счет, судя по всему, не было никаких сомнений. В 1932 г. Мандельштам так опишет кризис языковско-пастернаковской ноты: «Там фисташковые молкнут / Голоса на молоке, / И когда захочешь щелкнуть, / Правды нет на языке» («Стихи о русской поэзии», 3). По мнению Б. М. Гаспарова, «[в]ыражение “молкнут на молоке” явно соотносится с <кулинарной? – Е.С.> идиомой “мокнут на молоке”, вызывая новый вариант “водянистой жидкости” <…>. Общеязыковой образ потерянного голоса (“пересохшее горло”, “присохший язык”) парадоксально преобразуется в образ размокшего языка, неспособного более к ритмичному (“сухому”) щелканью соловьиных / поэтических трелей. Размокание в молоке <…> становится образом неутоленной (духовной) жажды <…> и, как следствие этого, потери поэтического голоса» [Гаспаров Б. 1994: 144–145]. К этому нужно добавить, что слово язык здесь намекает на Языкова, чье соловьиное щелканье более не поддается воспроизведению. Но вспомним также и об участи Филомелы, давшей имя соловью: ей отрезали язык, – см. Ovid. Met. VI 550–560. Корреляция фисташек и соловья прослеживается к кузминской газэле 1908 г. «Цветут в саду фисташки, пой, соловей!..», но главная мотивировка эпитета фисташковые, кажется, фонетическая, – с него начинается анафоническое «распыление» имени Филомела: ФИсташковые МОЛкнут гоЛОса на МОЛОке. Возможно, и этот прием сигнифицирует распознание аналогичного приема в тексте «Маргариты» (ср. очумелых, заломила).
132
Ср. у Ахматовой («Не пугайся, – я еще похожей…», 1962) перенесение на Энея как персонажа поэмы Вергилия сказанного в «Божественной комедии» о самом Вергилии как персонаже [Топоров 1973: 468–469].
133
Примеры. 1. Как полагает Г. А. Левинтон [1977: 153], образ кремнистого пути из старой песни намекает на «превращени[е] лермонтовского стихотворения в романс». 2. «О, величавой жертвы пламя! / Полнеба охватил костер <…>» («Ода Бетховену», 1914). Здесь реминисценция «Последней любви» Тютчева «ясно отража[ет] ритмическую схему и ее лексическое наполнение в источнике: <…> “Полнеба обхватила тень”», – отмечает Е. А. Тоддес, добавляя: «Мандельштам <…> цитирует излюбленную тютчевскую формулу» (приводятся релевантные строки стихотворений «Как неожиданно и ярко…» и «Прекрасный день его на западе исчез…») [Тоддес 1974: 29]. Между тем столь внятная отсылка к Тютчеву опосредована статьей Вяч. Иванова «Символика эстетических Начал» (= «О нисхождении», 1905), в которой строки стихотворения «Как неожиданно и ярко…», содержащие формулу полнеба обхватила, цитируются (причем дважды) именно в связи с идеей принесения себя в жертву: «…когда на высших ступенях восхождения совершается видимое изменение, претворение восходящего от земли и земле родного, тогда душу пронзает победное ликование, вещая радость запредельной свободы. Последний крик Тютчева, при зрелище радуги: | Она полнеба обхватила | И в высоте – изнемогла <…>»; «Восторгом жертвенного запечатления исполняет нас наша семицветная, над пышноцветной землей воздвигшаяся радуга, когда она | – полнеба обхватила | И в высоте – изнемогла. | Восхождение – символ того трагического, которое начинается, когда один из участвующих в хороводе Дионисовом выделяется из дифирамбического сонма. <…> Ибо жертвенным служением изначала был дифирамб, и выступающий на середину круга – жертва» [Иванов 1971–1987: I, 823–825]. В тексте Иванова находят себе соответствие и другие ключевые элементы «Оды Бетховену» – такие как сквозная тема жертвенного творческого горения (у Иванова: «Дьявол разводит свои костры в ледяных теснинах, и сжигая – завидует горящему, и не может сам отогреться у его пламеней» [Там же: I, 829]); как формула белой славы торжество (у Иванова дважды – автоцитата из «Кормчих звезд», стих. «Разрыв»: «Дерзни восстать земли престолом, / Крылатый напряги порыв, / Верь духу – и с зеленым долом / Свой белый торжествуй разрыв!»); и, разумеется, как уподобление героя-теурга Дионису (хотя Мандельштам, как отмечено в комментарии А. Г. Меца, ориентировался непосредственно на «высказывания Вяч. Иванова [о Бетховене в кн. 1909 г. “По звездам”] как о “зачинателе нового дионисийского творчества” и “избранном служителе Диониса”» (I, 545); см. также вероятную реминисценцию стихотворения «Гелиады» из кн. «Прозрачность» (1904) в черновой строфе «Оды Бетховену» [Левинтон 2000: 210]). 3. «…Я слышу в Арктике машин советских стук, / Я помню всё: немецких братьев шеи / И что лиловым гребнем Лорелеи / Садовник и палач наполнил свой досуг» («Стансы, 1935»). Эти строки реминисцируют строфу «Скифов», процитированную Мандельштамом в «Письме о русской поэзии» (1921) (II, 56) и в «Барсучьей норе» (1922) (II, 88): «Мы помним всё – парижских улиц ад, / И венецьянские прохлады, / Лимонных рощ далекий аромат, / И Кельна дымные громады…» [Фетисенко 1996 (1998): 137–138]. Блоковский подтекст в данном случае является основным, но, несмотря на всю его узнаваемость, он все же имплицитен, в отличие от вспомогательной, но вполне эксплицитной отсылки к балладе Гейне, мотивированной, в частности, тем, что Блоку принадлежал ее перевод (1909), неоднократно им публиковавшийся, в том числе и в составе собственных книг лирики.
134
См. также сходные замечания о поэтике Ахматовой: [Левин и др. 1974: 71–72], [Цивьян Т. 1974: 106], [Топоров 1981: 40]. Феномен промежуточных источников творчества Блока был затронут еще в работе Н. К. Гудзия [1930: 521; 548] – правда, в чисто техническом аспекте, без какой-либо проекции на поэтику (и в этой же связи к статье Гудзия отсылает Е. А. Тоддес [1974: 3]).
135
Примеры. 1. Строки «Мне холодно. Прозрачная весна / В зеленый пух Петрополь одевает» содержат косвенную отсылку к трем эпиграфам седьмой главы «Евгения Онегина» (см. гл. VIII наст. книги). 2. Как отмечает Т. В. Цивьян, «Решка» начинается «с объявления того, что автор ошибочно считал, что дух романтической поэмы “ожил в его ‘Петербургской повести’”, в то время как сама “Решка” опровергает это утверждение. Не случайно Ахматова обратила внимание на использование этого приема в “Адольфе” Бенжамена Констана, что, тоже вряд ли случайно, было замечено Байроном: “Автобиографичность ‘Адольфа’… была отмечена сразу. 29 июля 1816 г. Байрон писал своему другу поэту Роджерсу: “Я просмотрел ‘Адольфа’ и предисловие к нему, в котором отвергаются действительные персонажи…” <…>» [Цивьян Т. 1971: 263]. (Замечание Байрона Т. В. Цивьян цитирует по тексту статьи Ахматовой «“Адольф” Бенжамена Констана в творчестве Пушкина» [Ахматова 1977: 51].) Таким образом, есть основания допустить, что Ахматова, повторяя прием Констана, имплицирует его экспликацию в читательском отклике Байрона. Ср. по поводу строки «Так и знай: обвинят в плагиате» в той же «Решке»: «Мотив “плагиата” связан с традицией английской романтической поэмы <…>. Ср. в “Ченчи” Шелли, которую Ахматова намеревалась переводить в 1936 г., примечание автора: “An idea in this speech was suggested by a most sublime passage in ‘El purgatorio de San Patricio’ of Calderon: the only plagiarism which I have intentionally committed in the hole piece”» [Тименчик и др. 1978: 298]. 3. «…интересный пример у Вяземского цитаты из Державина и Пушкина одновременно в эпиграфе стих. “Сумерки”, 1848 г. Строка взята из Державина: “Чего в мой дремлющий тогда не входит ум”, но Вяземский не мог не знать, что Пушкин уже брал эту строку эпиграфом к своей “Осени” в 1833 г. Т. о., это “эпиграф в квадрате”» [Марков 1967: 1278].
136
Ср.: «…для Набокова характерен прием “дописывания”, извлечения и эксплицирования чужих скрытых парономастических игр. Это разновидность подтекстовой, цитатной техники, но если “референция” к источнику остается более или менее скрытой, как это в принципе свойственно подтексту, то та игра, которая в этом источнике была скрытой, в набоковской “цитате” становится явной» [Левинтон 2007: 65]. (Там же см. пример подобного приема.)
137
Примеры. 1. В стихотворении Блока «На островах» (1909; опубл. в сб. «Ночные часы», 1911) появляется формула чтить обряд, довольно редкая в русской словесности вообще и в поэзии в частности (обряд, как правило, творят или сотворяют, вершат или с(о)вершают, правят или отправляют, исполняют или выполняют; чтят же, как правило, обычай и под.): «Я чту обряд: легко заправить / Медвежью полость на лету, / И, тонкий стан обняв, лукавить, / И мчаться в снег и темноту <…>». В дальнейшем ее воспроизводят Ахматова: «Ведь где-то есть простая жизнь и свет, / Прозрачный, теплый и веселый… / Там с девушкой через забор сосед / Под вечер говорит, и слышат только пчелы / Нежнейшую из всех бесед. // А мы живем торжественно и трудно / И чтим обряды наших горьких встреч, / Когда с налету ветер безрассудный / Чуть начатую обрывает речь, – // Но ни на что не променяем пышный / Гранитный город славы и беды, / Широких рек сияющие льды, / Бессолнечные, мрачные сады / И голос Музы еле слышный» (1915; опубл. 1916; вошло в «Белую стаю», нач. 1917); Цветаева: «Расцветает сад, отцветает сад. / Ветер встреч подул, ветер мчит разлук. / Из обрядов всех чту один обряд: / Целованье рук. // Города стоят, и стоят дома. / Юным женщинам – красота дана, / Чтоб сходить с ума – и сводить с ума / Города. Дома. // В мире музыка – изо всех окон, / И цветет, цветет Моисеев куст. / Из законов всех – чту один закон: / Целованье уст» (12 дек. 1917); Мандельштам: «…И чту обряд той петушиной ночи, / Когда, подняв дорожной скорби груз, / Глядели вдаль заплаканные очи, / И женский плач мешался с пеньем муз. // Кто может знать при слове – расставанье, / Какая нам разлука предстоит <…>» (1918). Во всех четырех текстах одна и та же редкая фразема звучит в связи с темой непрочных – в силу внешних или внутренних причин – любовных уз (вообще же тема любовников как священнослужителей, творящих обряд, интенсивно разрабатывалась Брюсовым). Сверх того у Ахматовой обнаруживается одно лексическое пересечение с Блоком (с налету ← на лету), при этом оба стихотворения входят в «петербургский текст» (о подтекстуальном присутствии данного стихотворения Блока в «Поэме без героя» см. [Цивьян Т. 1971: 269]); у Цветаевой имеется два подобных пересечения с Блоком (в поцелуе ← целованье дважды; мчит ← мчаться) и целый ряд общих мотивов с Ахматовой (сад дважды ← сады; городá дважды ← город; расцветает сад ← через забор сосед ~ ‘сад’ и пчёлы ~ ‘цветенье’; ветер встреч и ветер… разлук ← горьких встреч и ветер безрассудный… обрывает речь ~ ‘разобщает’); наконец, Мандельштам вводит по одному элементу, специфически присущему одному из трех источников – блоковскому (ночных и ночи ← ночь), ахматовскому (пеньем муз ← голос Музы), цветаевскому (разлука ← разлук; нужно, впрочем, отметить, что стихотворение Цветаевой не публиковалось и могло быть известно Мандельштаму только по списку или устному чтению). Таким образом, сперва Цветаева, а затем Мандельштам маркируют свое присоединение к единой эстафете, протянувшейся от Блока. При этом Цветаева ориентируется и на другое стихотворение Блока – «Весна в реке ломает льдины…» (1902; опубл. 1907; вошло в изд. «Стихов о Прекрасной Даме» 1911 г.), где также упоминается Моисеев куст. Кузмин в «Двенадцатом ударе» («Форель разбивает лед», 1929) реминисцирует ситуацию «На островах» – поездку любовников по зимнему ночному Петербургу (у Кузмина – в некоем «сослагательном» или загробном хронотопе): «На мосту белеют кони, / Оснеженные зимой. / И, прижав ладонь к ладони, / Быстро едем мы домой. // Нету слов, одни улыбки, / Нет луны, горит звезда <…> Вдоль Невы, вокруг канала <…> Живы мы? и все живые. / Мы мертвы? Завидный гроб! / Чтя обряды вековые, / Из бутылки пробка – хлоп! <…> Входит в двери белокурый, / Сумасшедший Новый год!» (ср. другие лексические совпадения: оснеженные; кони ← коня; ср. общий мотив моста – Елагина у Блока и Аничкова у Кузмина). Известные мне два более ранних примера употребления формулы чтить обряд в русской поэзии отделены один от другого целым столетием: «Народов целые России миллионы / Вручили жребий свой, прияв ея законы, / И в ней нашли покой, как дети у отца, / Противны согласив и нравы и сердца; / И лютер и кальвин, католик, арианин, / Евреин и калмык, язычник, агарянин, / Безпрекословно всяк свой веры чтя обряд, / Под мудрым скипетром покоясь в круге чад» («Ода войскового протоиерея Кирилла Россинского на утверждение власти России на Кубани», 1804, впервые: [Р… 1810: 8–14]; цит. по [ПЦнК 2001: 179–183]); «Как Жид иль Турок чтя обряды, / Она под праздник свой елей / Затеплит – и сама лампады / Своей пред Господом светлей – / От всенощной и до полудней… / Не лучше ль быть, сестра, пред Богом неоскудней / В день будний?» (эпиграмма Вячеслава Иванова на М. М. Замятнину, вставленная в письмо к Л. Зиновьевой-Аннибал, 1902 [Иванов, Зиновьева-Аннибал 2009: II, 185]). В обоих текстах фразема употреблена в одинаковой грамматической форме ‘чтя + обряд(ы) в винительном падеже’ и в связи с последовательностью собирательных существительных единственного числа в именительном падеже, которая в одном случае включает в себя евреина и агарянина, а во втором исчерпывается Жидом и Турком. Перед нами два очень похожих примера использования комплексного риторического клише, в рамках которого перечисляются в вышеописанной форме или просто упоминаются различные (неправославные) (населяющие империю) народы, а также упоминается их обряд или обычай, по отношению к которому используется глагол чтить или его производные, – ср. еще: «Тавридец, чтитель Магомета, / Поклонник идолов, калмык, / Башкирец с меткими стрелами, / С булатной саблею черкес / Ударят с шумом вслед за нами / И прах поднимут до небес!» (И. Дмитриев, «Глас патриота на взятие Варшавы», 1794); у Мандельштама в оде Сталину: «Ста сорока народов чтя обычай». 2. «К царевичу младому Хлору – / И – Господи, благослови! – / Как мы в высоких голенищах / За хлороформом в гору шли» («Когда в далекую Корею…», 1932). О. Ронен комментирует: «Каждый дореволюционный школьник хорошо знал аллегорическую сказку, написанную Екатериной Второй в наставление венценосному внуку (и продолженную в одической форме Державиным): царевич Хлор с помощью богоподобной Фелицы восходит на “высоку гору, где роза без шипов растет” – идеал добродетели и справедливости. Сия утопическая мечта обернулась для младшего поколения хлороформом. <…>» [Ронен 1992: 505]. Однако цитатен не только Хлор, но и хлороформ, – ср. у Вяземского, косвенно уподобляющего розе без шипов сон без приема снотворного: «“Царевичу младому Хлору” / Молюсь, чтоб, к нам он доброхот, / Нас взвел на ту высоку гору, / Где без хлорала сон растет» («Графу М. А. Корфу», 1874). Как мы видим, у Вяземского подъем на гору обозначает отход от употребления снотворного, а у Мандельштама – путь к обезболивающему для раненых, который совершают играющие в войну дети, взбираясь на поленницу.
138
Пример. В примечании к «Поэме без героя» Ахматова сообщает: «Пропущенные строфы – подражание Пушкину. См. “Об Евгении Онегине”: “смиренно сознаюсь также, что в ‘Дон-Жуане’ есть две пропущенные строфы”, – писал Пушкин» [Ахматова 1990: I, 345]. Пушкинское примечание есть эквивалент кавычек, т. е. элемент, избыточный по отношению к объекту повтора, прекращение повтора за счет его экспликации. Ахматова воспроизводит всю эту конструкцию целиком, прекращая повтор тем, что ссылается на Пушкина, а не на Байрона. Добавочный элемент прекращения повтора заключается в том, что Ахматова атрибутирует примечание редактору. Об этом примечании см. также [Левин 1998: 592].
139
Ср.: «…для Мандельштама типичен <…> ввод двух иноязычных слов подряд» [Лотман М. 1997: 59–60]. Ср. также: «Автореминисценции, наблюдаемые внутри корпуса произведений какого-либо писателя, суть не что иное, как конечный продукт реминисценций. Вторично актуализуя однажды утвержденную интертекстуальную связь, художник как бы сам верифицирует ее <…>. Тем самым мы обретаем объективный способ проверки наших предположений в области интертекстуальных исследований» [Смирнов 1995: 21].
140
В этом существенное отличие поэтики Мандельштама даже от самых близких ему герметичных поэтик; ср. об Ахматовой, чей прием ложной загадки, отсылки к несуществующему подтексту предполагает непроверяемость отгадок: «В метапоэтической главе “Решка” <…> [н]ередко <…> автор заставляет читателя подозревать <…>, что “за этим что-то кроется”, хотя это “что-то” может быть не более чем поэтической фигурой, затрудняющей возможность однозначного решения» [Цивьян Т. 1971: 256–257]; «<…> задавая загадки без разгадок, Ахматова прилагает особые усилия к тому, чтобы читатель ощущал семантическую многоплановость поэмы и стремился к ее разрешению. Ахматова как будто боится, что поэму “поймут” слишком поверхностно и буквально, и почти навязывает читателю задачу, близкую к дешифровке (при этом “истинная” интерпретация остается неизвестной)» [Там же: 256]. Ср. также характерное для Ахматовой сведение цитаты к одному слову, в значительной мере лишающее читателя возможности проверить свою догадку [Аникин 2011: 37]. В какой-то мере эти установки Ахматовой могли быть заданы драмой Анненского «Фамира-кифарэд» (1906) [Там же: 357 сл.].
141
Примером могут служить лексико-семантические, стиховые и композиционные соответствия между «Царским Селом» (1912) и недатированным стихотворением «Л. И. Микулич», впервые опубликованным в кн. «Посмертные стихи Иннокентия Анненского» (Пб., 1923). Эти два эквиметричных и ритмически сходных текста были сопоставлены Г. Т. Савельевой [1996], чьи выкладки, однако, с одной стороны, к сожалению, маловразумительны, а с другой, не затрагивают следующих важнейших моментов. У Анненского наречие Там в начале строк вводит очередную дескриптивную характеристику одного и того же локуса, название которого сообщается лишь в конце («Скажите: “Царское Село” – / И улыбнемся мы сквозь слезы»). Эту анафорическую композицию Мандельштам зеркально переворачивает: ключевой топоним объявляется в самом начале; соответственно, детализирующее Там появляется непосредственно вслед за этим и, больше не повторяясь, относится ко всему дальнейшему; в начале текста вводится и мотив, которым текст-антецедент заканчивается, – мотив улыбки, причем не грустной, как у Анненского, а веселой («Поедем в Царское Село! / Там улыбаются мещанки <…>»). Кроме того, определение седой (в двух разных, но омонимичных друг другу словоформах) в обоих текстах стоит в рифменной позиции. Наконец, пятистишия «Царского Села» совпадают схемой рифмовки с первыми пятью строками второй строфы стихотворения Анненского.
142
В этом отношении Мандельштам совпадает с символистами; ср.: «… автор “текста-мифа” обращается, как правило, к произведениям, заведомо известным читателю: мифам, значительнейшим (для русского символиста) произведениям мировой литературы и т. д.» [Минц 2004: 75]. «Позже, когда поэтика цитат войдет в культурное сознание эпохи и начнет формировать “стандарты” читательского ожидания, окажется возможной и игра известностью/неизвестностью цитатного образа, его подлинностью / мнимостью, точностью / нарочитой неточностью воспроизведения “чужого слова” <…> и т. д. Однако первична в истории новейшей русской литературы ХХ в. именно символистская поэтика цитат» [Там же]. Впрочем, «место “хорошо известных” текстов могут занимать и тексты “хорошо известные в данном кругу”» [Там же: 333].
143
Ср.: «…называя источник цитаты в литературном произведении, комментатор должен обозначить степень релевантности атрибуции – во-первых, насколько было значимо для писателя и для его исторического читателя само ощущение цитатности того или иного места <…> а во-вторых, насколько для автора и конкретно исторической аудитории было значимо точное знание о том, кто именно автор цитируемого, и в случае незнания или ошибки – характеризуют ли они автора, рассказчика или персонажа. <…> Ошибка автора ставит вопрос о промежуточном тексте – виновнике дезинформации <…> Таким образом, от комментатора требуется не только констатация неточности <…>, но и раскрытие механизма неверной атрибуции, которое оделяет нас сведениями о генезисе и семантике текста, подобно тому как и всякий анализ недостоверного источника может вскрыть его вероятную реальную первооснову» [Тименчик 1997: 86–89].
144
И. П. Смирнов определяет язык символизма как семиотизирующий предметную среду, которая, будучи приравнена к набору означающих, обретала смысл только «в проекции на идеальную среду» [Смирнов 2001: 33], а в языках футуризма и акмеизма видит два альтернативных опыта преодоления символистического дуализма, сходных в том, что «содержание текстов лишено идеального характера, субстанциально по своей природе» [Там же: 140]. В футуризме «[с]оциофизическая действительность утратила признаки текста, и, наоборот, тексты культуры обрели признаки естественных фактов» [Там же: 107], т. е. перестали рассматриваться как знаковые системы (ср. заумь). «…в противоположность футуристам участники акмеистического движения утверждали не слияние, а равновеликость естественных фактов и средств обозначения: литература становилась миром, который управлялся собственными законами, неподвластными внешним воздействиям» [Там же: 140]. «Если воспользоваться терминами Ф. де Соссюра, то можно сказать, что в практике акмеистов происходила подмена собственно значений значимостями семиотических единиц. Свой семантический вес знак получал главным образом внутри знаковых совокупностей, обладавших статусом второй реальности, а не в проекции на объект. <…>» [Там же: 144]. Можно возразить: если символизм, действительно, рассматривает мир (и искусство как его важнейшую часть) как текст об идеальной среде, а футуризм рассматривает текст (искусство) как важнейшую, авангардную составляющую мира, то акмеизм рассматривает мир как подтекст, а искусство – как проводящую среду между миром и актуальным текстом, как то, что было (актуальным) текстом, а стало частью мира. Таким образом, акмеизм антитетически соединяет обе тенденции – к семиотизации предметной среды и к опредмечиванию знаков. Эта фундаментальная антитетичность воспроизводит принципиальную неразрешимость истинного, трагического конфликта. Ср. рассуждения О. Ханзен-Лёве: «Если у символистов самое главное – глубина, внутренние, тайные содержания, знамения апокалипсиса, если футуристы сосредоточены на монтаже, конструкции разнородных фрагментов поверхности и фактуры, то для Мандельштама и акмеистов характерна парадоксальная, оксюморонная двусторонность противоположных сфер мира. Не следует отождествлять эту двусложность Мандельштама с амбивалентностью символа в компенсаторной концепции символистов или с бинарным мышлением футуристов, формалистов, структуралистов. И в этом отношении семантика одновременности, оксюморонной симультанности акмеистов схожа с семантикой раннего, декадентского символизма 90-х гг. <…>» [Ханзен-Лёве 1998: 266].
145
Этот принцип должен учитываться (наряду с литературной политикой автора и пр.) при рассмотрении вопроса о том, имеем ли мы дело с цитацией, заимствованием или конвергенцией. Поэтому, хотя сказанное о «Поэме без героя»: «…литературная значимость не определяет возможность/невозможность цитирования того или иного автора стихов» [Тименчик и др. 1978: 280], – в принципе верно и в отношении творчества Мандельштама, нужно уточнить: литературная значимость автора, как правило, определяет вероятность его цитирования.
146
Ср. [Ораич 1988: 116].
147
В этой плоскости проявляется любопытное сближение художественной практики Мандельштама с формалистской теорией. Как показал Е. А. Тоддес, Мандельштам-теоретик постулирует своего рода принцип остранения, но с инверсией значения, придаваемого фактору узнавания / повторения: по Шкловскому, оно есть противоположность видению как эффекту остранения («тогда как жизнь литературных произведений идет “от видения к узнаванию” – по мере повтояющихся обращений читателя к данному тексту, канонизации его и т. д.»); по Мандельштаму, оно есть залог видения, т. е. представляет собой остраняющий прием. На первый взгляд, говорит Тоддес, мандельштамовская категория «повторенья», «узнаванья» «противоположна тезису Шкловского, но это не так. “Повторенье” <…> – некоторый парадокс; <…> оно наделено как раз признаками “видения”. Если излюбленный ход опоязовцев – утверждение о том, что канонизированные, “узнаваемые” произведения в момент их появления воспринимались как затрудненные, то “Я [хочу снова] Овидия, Пушкина, Катулла, и меня не удовлетворя[е]т исторический Овидий, Пушкин, Катулл” ([“Слово и культура”]) – это формула актуализации стертой затрудненности и возвращения от “узнавания” к “видению”. <…>» [Тоддес 1986: 85]. (Ср.: «Если в футуризме-формализме “окаменение” оценивается резко отрицательно, то в акмеизме как раз наоборот, каменность понимается как крайне положительный принцип постоянства, вневременности или структурности» [Ханзен-Лёве 2005: 310].) Далее Тоддес пишет о мандельштамовской идее деканонизации Данте как, в сущности, способа остранения его фигуры и возврата к первоначальному его восприятию как «трудного» писателя [Тоддес 1986: 90]. Вместе с тем «повторенье» как фундаментальный для поэтики Мандельштама принцип подтекстуальной загадки, т. е. как имплицитную цитацию, можно рассматривать в качестве остранения знакомого через его затрудненное / отсроченное узнавание. Прямым следствием такого остранения должно стать самоостранение всего текста как вторичной и третичной знаковой системы одновременно. Так вот, поскольку Шкловский не проводит четкого разграничения между остранением эмпирических, языковых и художественных феноменов, поэтика Мандельштама в определенном смысле могла бы считаться эталоном остраняющей поэтики. Ср. еще дихотомию двух типов интертекстуальных отношений, которую Д. Ораич выводит из концепции остранения; первый из них, по-видимому, может быть соотнесен с заимствованием, второй – с цитацией: «В цитатном соотношении чужое произведение становится материалом собственного приема, причем мотивировка может идти в двух направлениях: или от чужого произведения к собственному, когда материал детерминирует прием <…>, или от собственного произведения к чужому, когда прием детерминирует материал <…>. Первый процесс характерен для “полуплагиатов и переизобретений” <…>, т. е. для эпигонского переписывания чужих мотивов, чужих образов и чужой структуры <…>. Второй процесс, в котором мотивировка движется в обратном направлении, от собственного текста и собственного приема к чужому произведению, представляет собой форму остранения. <…> Если мы переведем эти два имплицитных значения на язык теории остранения, то получим в рамках системы Шкловского два вида цитатности: цитатность как “узнавание” или автоматизацию и цитатность как “новое видение” или остранение чужого текста в рамках собственного» [Ораич 1988: 114–115].
148
Ср. с принципами обращения с разными лексическими значениями слова: «Пастернак, кажется, любит использовать слова в их не первом, а последнем словарном значении. <…> Что же касается Мандельштама, – у него возможно употребление слов в разных словарных значениях, но, как правило, эти значения равно употребляемы. <…> Мандельштам обычно употребляет слова в их самом распространенном словарном значении, но через неожиданное <…> сочетание перемещает внимание на сопровождающий, однако в данном контексте сущностный признак слова», чтобы «через неожиданность сочетания осветить приглушенную или угасающую ветвь семантического пучка» [Силард 1977: 87].
149
См. выше примеры сопряжения однотипных и разнотипных приемов.
150
Ср., например, догадки Анненского по поводу стихотворения Сологуба «Мы – плененные звери…» (1908), – сегодня они звучат не слишком убедительно, но аргумент, касающийся расположения стиха в пространстве текста, примечателен и многое говорит о художественных установках самого Анненского и его последователей: «…Прежде всего – слышите ли вы, видите ли вы, как я вижу и слышу[,] чтó мелькнуло, чтó смутно пропело в душе поэта, когда он впервые почувствовал возможность основной строфы этой пьесы? | Первой обозначившейся строчкой была третья <…> – Глухо, заперты двери – Вы узнаете ее конечно? | “Тихо запер я двери” – | Ведь это была тоже третья строчка в стихотворении Пушкина “Пью за здравие Мэри[”.] <…>» [Анненский 1909: 33–34].
151
Пример. «Когда, пронзительнее свиста, / Я слышу английский язык – / Я вижу Оливера Твиста / Над кипами конторских книг. // У Чарльза Диккенса спросите, / Что было в Лондоне тогда: / Контора Домби в старом Сити / И Темзы желтая вода. // Дожди и слезы. Белокурый / И нежный мальчик Домби-сын <…>» («Домби и сын») ← «Он был – инструктор в скэтинг-ринке – / Джон Листер – тульский мещанин, / Она стучала на машинке / В конторе фирмы: “Штоль и сын”. // Он был – блондин, она – брюнетка» (Н. Агнивцев). Между двумя текстами есть ряд соответствий: размер, строфика, английская семантика, мотив белокурости мужского персонажа, «Домби и сын» / «Штоль и сын». Решающим фактором верификации подтекстуального приема является то, что текст Агнивцева был опубликован в 23 номере «Сатирикона», датированном 7 июня 1913 г., а текст Мандельштама – в 7 номере «Нового Сатирикона», датированном 13 февраля 1914 г. Кстати, этот интертекст позволяет ограничить нижнюю дату написания «Домби и сына», не имеющего точной датировки, серединой июня 1913 г. О функции «помещения в одном сборнике, одном номере журнала» в «метонимическом» подтекстообразовании см. напр. [Левинтон 1977: 220].
152
Например, воспроизведение рефрена, особенно в качестве рефрена же (см. анализ такого воспроизведения мандельштамовских рефренных сегментов в поэзии Анны Горенко: [Сошкин 2005: 37–47]), или, как в упомянутом выше случае с «Мне холодно. Прозрачная весна…», отсылку ко всем трем эпиграфам к седьмой главе «Евгения Онегина».
153
Например, смертельная папироска («От сырой простыни говорящая…», 1935) трактуется как проекция «батальной» темы стихотворения на фразеологизм «стрелять папиросы», который встречается в «Четвертой прозе» (II, 347) [Тоддес 2005: 445]. Но здесь и намек на папиросную гильзу, который возвращает разговорному глаголу стрельнуть его (вероятную) исходную логику (ср. папиросную гильзу в мандельштамовском лексиконе: II, 233).
154
См. [Тименчик 1997: 89–92]. Ср.: «…постараемся выяснить, каким образом осуществляется связь между текстом и подтекстом, т. е. что вообще заставляет читателя искать подтекст. | Как известно, Мандельштам – поэт “трудный” для читательского восприятия. Многие современники Мандельштама рассматривали семантическую затрудненность его произведений как “загадывание загадок”. Действительно, в поэзии Мандельштама четко выражена установка не столько на “кажущуюся, некоммуникативную семантику” (терминология Тынянова), сколько именно на загадку, активизирующую читателя и требующую от него особой компетентности» [Ронен 2002: 27–28]. Ср. также описание поэтики Мандельштама, данное О. Ханзен-Лёве, который видит в ней парадоксальное соединение двух противоположных текстопорождающих моделей, одна из которых основана на комбинаторике готовых застывших элементов (сюда относится, в частности, анаграмматическая техника), а другая – на развертывании органической ткани. В рамках первой из них «для реципиента <…> самое главное <…> – не сущность элементов, но правила их сочетания, поиск ключа для “открытия” загадок текста или “комбинации” замка. Таким образом читатель-слушатель становится соавтором текста (партнером автора) <…>» [Ханзен-Лёве 1998: 242]. Действительно, акмеистическим сигналом цитатности в пределе является прямой вызов читателям: «Догадайтесь, почему», но на практике – все же чаще «некоммуникативная семантика», например – предъявление заведомо нерелевантного источника. Ср. о строках Ахматовой «И нарцисс в хрустале у тебя на столе, / И сигары синий дымок» («Наяву», 1946): «Стихи 3 и 4 дают очень резкий, непредсказуемый стилевой шок <…>. Воспевание нарциссов и дымка сигары могло быть приметой “безвкусицы”, стилистики эпигонов символизма или расхожей постсеверянинской поэтики 1910-х годов» [Тименчик 1989а: 146]. Тем самым указание на наличие загадки в данном случае строится на контрастности текста литературной репутации его автора и времени его написания. И действительно, ключевыми оказываются сквозной прием внутренней рифмы и упоминание нарцисса в той строке, где такая рифма эксплицируется: нарцисс → (Нарцисс) → (Эхо) → внутренняя рифма («…здесь снова, как в нео-мифе, некогда сочиненном Пушкиным, Рифма есть дочь Эхо» [Там же: 149]).
155
Ср.: «Некоторая часть текста, связывающая данный текст (часть текста) с другим текстом (частью текста), требует в первую очередь узнавания, возможности ее соотнесения с другим текстом. Для интерпретации такой части необходимо, во-первых, выявить ее функцию в тексте, во-вторых, фиксировать актуальную связь с исходным текстом» [Тороп 1981: 39]. Такую общую для двух текстов часть П. Х. Тороп обозначает как интекст, несколько редукционистски трактуя феномен межтекстовой общности как совпадение / подобие отрезков текста, тогда как, разумеется, не менее значимы другие, более абстрактные уровни сопоставления. Исследователь выделяет такие характеристики интекста, как маркированность / немаркированность, контекстуальность / имманентность, эксплицитность/имплицитность, утвердительность / полемичность [Там же: 42–43] и строит типологию функций интекста в тексте [44] и типологию «актуальных связей» интекста с исходным текстом (подтекстом) [43].
156
Этому алгоритму дешифровки симметрична модель читательского непонимания (НП), которую конструирует Ю. И. Левин: «…возможны следующие градации НП: а) незнание того, что данный фрагмент – цитата; б) незнание источника цитаты (скажем, автора); в) незнакомство с цитируемым сочинением, т. е. с контекстом в источнике; г) НП интенции цитирования, т. е. НП связи источника с данным текстом и соответствующих семантических импликаций» [Левин 1998: 585].
157
Примеры. 1. Стихотворению «Клеопатра» (1940) Ахматова первоначально предпослала два эпиграфа – из «Антония и Клеопатры» и из пушкинского отрывка «И вот уже сокрылся день…» (1835). То обстоятельство, что оба текста, Шекспира и Пушкина, повествуют о Клеопатре, мотивирует выбор источников двух эпиграфов, но не выбор самих эпиграфов. В статье [Сошкин 2014] я доказываю, что не только шекспировский, но и пушкинский эпиграф был выбран благодаря его связи с мотивом четырех стихий. 2. Общепризнано, что в «Tristia» (1918) важнейшими являются реминисценции текстов Овидия и Тибулла / Батюшкова (см. [Бухштаб 2000: 274], [Тоддес 2008] и др.). Переплетение этих двух генетических нитей объясняется не одним только «сходств[ом] лирической ситуации» в двух текстах, имеющих к тому же одинаковую локализацию в составе поэтических корпусов двух римских поэтов, – «3-й элегии I книги “Тристий” и 3-м опусе I книги “Элегий” Тибулла» [Тоддес 1994а: 84–85]. Безусловно, связующим звеном между ними оказывается фигура Батюшкова, о чьем неосуществленном намерении сочинить элегию на тему ‘Овидий в Скифии’ могло быть известно Мандельштаму и в котором Мандельштам мог видеть аналог пушкинского Овидия («Не понимал он ничего» и т. д.; ср. пушкинское присутствие в тексте «Tristia», отмеченное Е. А. Тоддесом [Там же]). Но и это объяснение представляется недостаточным, – довольно указать на то, что и разработку темы Овидия-изгнанника, и обращение к образу Делии, устремившейся навстречу лирическому герою Тибулла в его грезах, мы найдем во «Фракийских элегиях» Теплякова. В качестве более специфичной мотивировки можно предложить следующую. В реминисцируемой Мандельштамом «Элегии из Тибулла» (1811) Батюшкова содержится образ ели, мчащейся на легких парусах: «Зачем мы не живем в златые времена? / Тогда беспечные народов племена / Путей среди лесов и гор не пролагали / И ралом никогда полей не раздирали; / Тогда не мчалась ель на легких парусах, / Несома ветрами в лазоревых морях. / И кормчий не дерзал по хлябям разъяренным / С сидонским багрецом и с золотом бесценным / На утлом корабле скитаться здесь и там». Соответствующий фрагмент элегии Тибулла (I, 3, 35–40) в переводе Л. Остроумова звучит так: «Как беспечально жилось под властью Сатурна, покамест / Не проложили еще в мире повсюду дорог! / Гордый сосновый корабль не резал лазурные волны, / В бурю еще не кидал крылья своих парусов, / И барышей не искал мореход в неизведанных странах, / На корабли не грузил ценный заморский товар». А. Б. Пеньковский отмечает, что у Тибулла «в соответствии с нормами высокой поэтической латыни» корабль обозначен не родовым, а видовым именем (не arbor ‘дерево’, а pinus ‘сосна’), и продолжает: «Стараясь быть адекватным в смысловом отношении и в то же время не погрешить против норм русского языка, Остроумов сохранил тибуллову “сосну”, но, транспонируя это предметное имя в адъективную позицию определения, лишил его характерного для высокой латинской поэтической речи метонимического значения и тем самым тропеически обескровил его и в то же время сильное, сжатое семантической пружиной мускулистое латинское имя: pinus – ῾сосна-корабль’ (“соснабль” – говоря языком Хлебникова) превратил в русское расслабленное описательное обозначение: “сосновый корабль”. | Батюшков поступил по-иному. Он <…> – по-видимому, из соображений и оснований эвфонического характера <…> – заменил одно дендрологическое имя (сосну тибуллова оригинала – лат. pinus) другим (русской елью – лат. abies), но того же семейства хвойных сосновых и, что, вероятно, важнее – с тем же поэтическим потенциалом и на той же метонимической основе: лат. “ăbiēs, ĕtisf 1) ель; 2) вещь, сделанная из ели (копьё; корабль; письмо, написанное на еловой дощечке)” <…>» [Пеньковский 2012: 29–30] (жирный шрифт оригинала). Могу предположить, что на смелое решение воспроизвести по-русски исходную метонимию (название дерева в значении ‘корабль, построенный из этого дерева’) Батюшкова сподвиг Овидий, который, описывая золотой век в начале «Метаморфоз», перепевал Тибулла, но при этом сосну упоминал не как метонимию корабля, а как его префигурацию – дерево, ставшее кораблем в результате метаморфозы, инспирированной человеком: «Первым век золотой народился, не знавший возмездий, / Сам соблюдавший всегда, без законов, и правду и верность. <…> И, под секирой упав, для странствий в чужие пределы / С гор не спускалась своих сосна на текущие волны» (I, 89–95. Пер. С. Шервинского). Это место «Метаморфоз» помнил и любил Мандельштам – ср.: «сухое золото классической весны» (стихи 1915 г., названные Г. А. Левинтоном [2005: 237] «своеобразн[ой] Epistula ex Ponto») ← «Первым век золотой народился <…> Вечно стояла весна» (Met. I, 89–107). Надо полагать, от него не ускользнула перекличка Овидия с Тибуллом (или, в духе мандельштамовских инверсий, – Тибулла в версии Батюшкова – с Овидием). Она-то, видимо, и послужила мотивировкой соединения реминисценций Овидиевых «Тристий» и «Элегии из Тибулла».
158
Это случается тогда, когда генетическая связь между двумя подтекстами не простирается за пределы тех элементов каждого из подтекстов, которые воспроизводятся в тексте. Пример. В рассказе Набокова «Картофельный Эльф» (1924) фокусник объявляет, что уезжает в Америку, а в следующем эпизоде имитирует самоубийство на глазах у жены. Вместе с ней мы колеблемся между готовностью и неготовностью поверить в самоубийство. Она – из-за привычки к его мистификациям, с одной стороны, и его виртуозного мастерства, с другой, мы – преимущественно из-за того, что помним, с одной стороны, об отъезде в Америку вместо мнимого самоубийства в романе «Что делать?», а с другой – о пародийной инверсии этого мотива в «Преступлении и наказании»: действительном самоубийстве вместо мнимого отъезда в Америку [Soshkin 2014].
159
Нижеследующий пример заведомо небезупречен; будем надеяться, в дальнейшем ему найдется более достойная замена. О. Ронен вспоминает: «…Г. П. Струве <…> счел “притянутым за уши” мое наблюдение об анаграмматической связи акме и камень (позже он изменил свое мнение, увидев первое издание “Камня” с типографически выделенным названием “Акмэ” на обложке) <…>» [Ронен 2002: 13]. Помимо того, что название эфемерного издательства на обложке во всяком случае выступало паратекстуальным элементом по отношению к целому всей книги, вероятным подтверждением того, что зеркальность между названиями книги и издательства воспринималась ближайшим к автору кругом читателей как сознательный прием, служит запись П. Н. Лукницкого от 21 декабря 1927 г.: «1913. 12 апреля <…>. Надпись О. Мандельштама на сборнике “Камень” (“акмэ”): “Анне Ахматовой – вспышка сознания в беспамятстве дней, почтительно, Автор. 12 апреля 1913”». (О семантической связи между именем Ахматовой и словом «акмеизм» см. [Тименчик 1974: 40].) Однако более веским доводом в пользу интенциональности полиграфического приема мне представляется другая запись Лукницкого, от 5 апреля 1925 г., – свидетельство того, что Мандельштам придавал значение пространственной соположенности названий книги и издательства и болезненно реагировал на их случайную перекличку: «О. Э. открывает шкаф и достает только что вышедшую книгу его “Шум времени”. Ему не нравится обложка; ему кажется странным видеть на обложке название “Шум времени” и тут же внизу “Изд. Время”».
160
Пример. О. Ронен приводит оригинальное наблюдение не называемого по имени (но легко установимого) лица, своего бывшего студента, которого обвиняет в присвоении своих идей: «…Между тем этот автор – человек даровитый. Он заметил, например, что заглавие сборника Ходасевича “Путем зерна” – синонимическая игра слов с фамилией автора: “Ход сева”» [Ронен 2010а: 264]. Изысканный прием Ходасевича находит себе шуточное соответствие в единственном стихотворном сборнике его жены, один из разделов которого называется «Переводы с берберского». В обоих случаях мы имеем дело с чем-то наподобие cameo appearance автора в своем произведении – приемом, хорошо известным по творчеству Рембрандта и Хичкока.
161
По стихотворному свидетельству Бориса Слуцкого, «…Роман Толстого в эти времена / Перечитала вся страна. / В госпиталях и в блиндажах военных, / Для всех гражданских и для всех военных / Он самый главный был роман <…>» («Роман Толстого»). Это свидетельство удостоверяет реминисценции из третьего тома «Войны и мира» в стихах о Второй мировой. Примеры. 1. «Номера домов, имена улиц, / Город мертвых пчел, брошенный улей» (И. Эренбург, «Памятники Парижа», 1940) ← «Москва между тем была пуста. <…> Она была пуста, как пуст бывает домирающий обезматочивший улей» (т. 3, ч. 2, гл. XXI). 2. «Ведь тоже в Можайском уезде / Лишь знали названье села, / Которое позже Россия / Бородином назвала» (К. Симонов, «Безыменное поле», 1942) ← «– Позвольте спросить, – обратился Пьер к офицеру, – это какая деревня впереди? | – Бурдино или как? – сказал офицер, с вопросом обращаясь к своему товарищу. | – Бородино, – поправляя, отвечал другой» (т. 3, ч. 2, гл. XXI).
162
Ср.: «В том, что показатель живучести корня – согласный звук, Мандельштам был убежден. Споря с литанией гласных в символистской поэзии и ссылаясь на пример прежде всего Хлебникова, Мандельштам утверждал: “Слово размножается не гласными, а согласными. Согласные – семя и аналог потомства языка” <…>. Итак, Мандельштам любит сближать – чаще всего парами – семантически удаленные, но близкие звучанием согласных слова, и это у него <…> вопрос создания такой “обратной” ситуации в тексте, когда фонема в самом деле как бы помещается внутрь значимости опорных слов и этим дает соответствующее освещение всему тексту» [Силард 1977: 79]. Возвращаясь к обстоятельству созвучности слов тайной и Тассо как вероятного импульса к заимствованию из тютчевских «Близнецов» в стихотворении «Не искушай чужих наречий…», повторюсь: мера этой созвучности представляется достаточной, чтобы послужить причиной бессознательного заимствования, но не чтобы обеспечить аллюзию, т. е. некоторый коммуникативный жест. Аналогичным образом несоблюдение принципа эквиконсонантности позволяет, как мне кажется, уверенно отклонить гипотезу Д. И. Черашней [1992: 88] насчет параллелизма дочерей Ламарка и Лира – Корнелии и Корделии, – будто бы лежащего в основе аттестации Ламарка как шекспировской фигуры в естествознании (II, 331).
163
Ср.: «Обращают на себя внимание <…> звуковые соответствия внутри строк. <…> В ряде случаев сохраняется исходный “порыв” оригинала и хореический акцент в начале и в середине строки (“Válle che de’ laménti” – “Рéчка, распýхшая”); не только тот же акцент, но и тот же звук в словах “Nótte il cárro” – “Хóдит по крýгу”; “Guérra è ’l mio státo” – “Цéлую ночь на стрáже”; “Lasciándo in térra” – “Остáвив тéло” <…>» [Семенко 1997: 122].
164
Например, можно было бы предположить, что название повести «Египетская марка», в свете ее центральной темы – самосуда и шествия линчевателей по улицам Петербурга к «живорыбному садку», содержит намек на евангелиста Марка, принесшего христианство в Египет и умершего, когда толпа язычников волокла его по улицам Александрии. Однако прием омонимического взаимоналожения двух разнопадежных слов более чем сомнителен.
165
Пример. Е. А. Тоддес [1998: 306–308; 330–331] обстоятельно анализирует перевод сонета CLXIV, оспаривая мысль А. А. Илюшина [1990: 375 сл.] о ритмических сдвигах в переводах Мандельштама из Петрарки как имитации силлабического стиха оригинала и доказывая двусмысленность дважды повторенного глагола целую, в котором будто бы ударение может падать и на первый, и на второй слог. Подобный эффект двусмысленности, построенный на разноударной омонимии, кажется мне в принципе невозможным у Мандельштама, нарушающим принципы мандельштамовской поэтической коммуникации, которая допускает либо развертывание омонимической парадигмы в линейном континууме текста (Листа листал листы в черновиках «Рояля», 1931; лепет… лепит в «Скажи мне, чертежник пустыни…», 1933), либо игру альтернативными, семантически контрастными значениями одного и того же текстуального сегмента, а не двух омонимичных друг другу (Бог с тобой в финале «Вернись в смесительное лоно…», 1920). Но, принципиально будучи нонсенсом, заподозренный Е. А. Тоддесом прием к тому же опровергается характером соответствия мандельштамовского перевода итальянскому оригиналу. «Целую ночь, целую ночь на страже» – это аналог фразы «guerra è ’l mio stato» (подстрочный пер. И. М. Семенко [1997: 114]: «война – мое состояние»), но только с переатрибуцией этого состояния возлюбленной, что доказывается последовательностью редакций: «В неудержимом отдаленьи та же / Что и всегда, гневливая, на страже / И вся как есть» → «В неудержимой близости всё та же: / Целую ночь, целую ночь на страже / И вся как есть». Ясно, что у Мандельштама на этом отрезке текста изначально не было речи ни о каких действиях, исходящих от лирического субъекта. Таким образом, единственный довод против силлабоцентрической трактовки А. А. Илюшина можно считать опровергнутым, а присущую переводам из Петрарки ритмическую реминисценцию итальянских оригиналов – подтвержденной.
166
Приведу обратный пример – сквозной семантической соотносимости подтекста с текстом в дополнение к собственно цитации (см. выделенные сегменты): «Облезли бархатные туфли / Снял гобелены кредитор / Икра и устрицы протухли / Бычки Герцеговины Флор // Лежат повсюду на паркете / В рояле плавает дюгонь / В саду вишневом злые дети / В костер бросают том Гюго // Сосед уж не звонит а звóнит / От нас в Житомир не спросясь / С утра в окошке голубь стонет / На мрамор испражняясь всласть // В почтовом ящике томятся / Угрозы штрафы и счета / Глаза закроешь деньги снятся / Глаза откроешь нищета // Ни в банк ни в гости не пускают / А в день что отключили газ / Мой муж признался умирая / Я пидорас // Его бесплатно похоронит / Наш добрый пастор но ужель / Меня хозяева прогонят / В облезлых туфлях на панель» (А. Горенко, «Упадок», 1999) ← «есть в старых петербургских / квартирах едоки / картофеля и рыбы / печали и тоски // и словно гриф усталый / потертый как пятак / куда-то в угол смотрит / небритый Пастернак // а вот в ногах усталых / тяжелого стола / столпилися бутылки / зеленого стекла // воинственных пирушек / вещественный итог / а завтра их потащат / за отческий порог // средь книжек – тощий Рильке / и очень толстый Блок / на выцветших обоях / цветет чертополох // в шкафу когда-то белом / вещам надежный сон. / На коврике горелом / потертый патефон. // Лет десять стонет голубь. / Но все пошло на слом… / Лишь водосточный желоб / темнеет над окном» (Е. Вензель, 1968, 1974). Полный текст стихотворения Е. П. Вензеля приводится с его любезного разрешения.
167
Пример. «Божье имя, как большая птица, / Вылетело из моей груди. / Впереди густой туман клубится, / И пустая клетка позади» («Образ твой, мучительный и зыбкий…», 1912). И. А. Паперно [1991: 31–32] отмечает игру значениями ‘птичья клетка’ и ‘грудная клетка’ и утверждает: «За образом слова как вылетающей птицы стоит <…> конкретный текст – пословица: “Слово не воробей, вылетит – не поймаешь”». Далее исследовательница выдвигает гипотезу о том, что Мандельштам использует эту пословицу в качестве аллюзии на книгу А. А. Потебни «Из записок по теории словесности», где она цитируется, и что эта аллюзия была мотивирована тем влиянием, которое идеи Потебни оказали на воззрения символистов на природу слова. С каждым следующим логическим шагом это многоступенчатое построение выглядит все менее правдоподобно. Если прием буквализации застывшей метафоры грудная клетка и ее дальнейшего нарративного развертывания отмечен совершенно справедливо, то уже привлечение пословицы кажется скорее нежелательной потенцией мандельштамовского текста, чем его семантически оправданной интенцией; с учетом интонационных и семантических характеристик текста я определил бы его отношение к этой пословице как невольное заимствование, побочный эффект сравнительной неопытности поэта. (Что же касается предположений о книге Потебни как того источника, к которому отсылает растворенная в тексте пословица, причем в какой-то неопределенной связи с фактом воздействия этой книги на символистов, – то эти предположения идут вразрез со всеми принципами коммуникативной прагматики: имплицитный элемент может указывать или на смежный с ним в том множестве, к которому он принадлежит, или на все это множество, или на сходный (совпадающий) с ним элемент в другом множестве; в данном случае предполагается импликация общеупотребительной пословицы, которая никак не может считаться узнаваемым элементом научного труда.)
168
Примеры доказуемого заимствования. 1. Финал поэмы Некрасова «Мороз, Красный Нос» (1862–1864) описывает замерзающую Дарью теми же словами, которыми Случевский описал холодность статуи в стихотворении «Статуя»: «…Ком снегу она уронила / На Дарью, прыгнув по сосне. / А Дарья стояла и стыла / В своем заколдованном сне…» ← «И видят полночные звезды / И шепчут двурогой луне, / Как холоден к ней гладиатор / В своем заколдованном сне». Совпадение зафиксировано М. Л. Гаспаровым [1999: 131], который, однако, не отметил, что заимствование удостоверяется местом первой публикации «Статуи»: «Современник», № 1, 1860. С другой же стороны, о том, что строки Случевского, в силу их эквиметричности и эквистрофичности поэме Некрасова, были подброшены ему его редакторской памятью и что в данном случае не приходится говорить о семантической цитате, свидетельствуют и коллизия «Статуи», и ее полуантичный колорит, и семантика фикционального пространства, предельно далекая от скованного морозом леса: сонное озеро и игривый ключ, мхи и цветущие травы и пр. 2. В «Сыновьях Аймона» описание рубища, покрывающего скитальцев, содержит три лексических совпадения с описанием прохудившейся шинели в повести Гоголя: «…Сукно, как паутина, на плечах у них висит – / Где родинка, где пятнышко – мережит и сквозит»; «…в двух, трех местах, именно на спине и на плечах она сделалась точная серпянка: сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась» [Гоголь 1937–1952: III, 147]. Понятно, что о семантической актуализации гоголевского текста здесь не может быть и речи. В то же время верификация невольного заимствования, а не конвергенции обусловлена безусловным присутствием текста «Шинели» в самых верхних слоях цитатного фонда Мандельштама.
169
Пример доказуемой типологической общности. Начало стихотворения Баратынского 1841 г. обнаруживает заметное мотивное сходство с «Шарманщиком» Вильгельма Мюллера: «Что за звуки? Мимоходом / Ты поешь перед народом, / Старец нищий и слепой! / И, как псов враждебных стая, / Чернь тебя обстала злая, / Издеваясь над тобой»; «…Keiner mag ihn hören, / Keiner sieht ihn an, / Und die Hunde knurren / Um den alten Mann». Малоизвестность в России к началу 1840-х гг. как Мюллера, так и Шуберта и незнание Баратынским немецкого позволяют практически исключить его знакомство с песней о шарманщике. Объединяющая их коллизия восходит к мифу о поэте, растерзанном вакханками (Орфей) или собаками (Еврипид). Оба эти сюжета Овидий упоминает в поэме «Ибис»: «…станешь добычею псов, берегущих Диану, / Как сочинитель стихов, в строгий обутый котурн; <…> Тело твое на куски разорвут безумные ногти / Тех, кто на гербских брегах рвали Орфееву плоть» (595–600, пер. М. Л. Гаспарова). Этот же мифологический мотив угадывается и за строками Мандельштама «– <…> Уйдем, покуда зрители-шакалы / На растерзанье Музы не пришли!» («Я не увижу знаменитой “Федры”…»).
170
Конвергенция, т. е. отсутствие генетической связи между совпадающими элементами двух текстов, надежнее всего доказывается установлением несовпадающих подтекстов для каждого из двух совпадающих сегментов (если предположить наличие далекого общего источника, опосредованного этими подтекстами, то можно говорить о явлении эквифинальности). Пример. У Мандельштама и Заболоцкого встречается один и тот же финальный образ: «А в запечатанных соборах, / Где и прохладно, и темно, / Как в нежных глиняных амфорах, / Играет русское вино. <…> Архангельский и Воскресенья / Просвечивают, как ладонь, – / Повсюду скрытое горенье, / В кувшинах спрятанный огонь» («О, этот воздух, смутой пьяный…», 1916); «И пусть черты ее нехороши / И нечем ей прельстить воображенье, – / Младенческая грация души / Уже сквозит в любом ее движенье. / А если это так, то чтó есть красота / И почему ее обожествляют люди? / Сосуд она, в котором пустота, / Или огонь, мерцающий в сосуде?» («Некрасивая девочка», 1955). Источник образа у Мандельштама – Книга Судей (7: 16–20): «И разделил триста человек на три отряда и дал в руки всем им трубы и пустые кувшины и в кувшины светильники. | И сказал им: смотрите на меня и делайте то же; вот, я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте; | когда я и находящиеся со мною затрубим трубою, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите: [меч] Господа и Гедеона! | И подошел Гедеон и сто человек с ним к стану, в начале средней стражи, и разбудили стражей, и затрубили трубами и разбили кувшины, которые были в руках их. | И затрубили все три отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке своей светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали: меч Господа и Гедеона!» (На основании совпадения рифмопары ‘ладонь – огонь’ / ‘огонь – ладонь’ и, в других частях двух текстов, приписывания тополям некоего тревожного действия Е. А. Тоддес [1998: 333] связывает мандельштамовский образ с описанием левкоев в стихотворении Ахматовой «Синий вечер. Ветры кротко стихли…», 1910.) Источник образа у Заболоцкого – ряд евангельских параллельных мест: «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. | И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Мат. 5: 14–16); «И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике?» (Мар. 4: 21); «Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет» (Лук. 8: 16). Примечательно, что концовки обоих стихотворений полемически заострены против своих библейских подтекстов. В первом случае – с позиции христианской проповеди не меча, но мира (ср. в начале: «О, этот воздух, смутой пьяный <…> Качают шаткий мир смутьяны <…>»), и, соответственно, в порядке наполнения старых «амфор» новым «вином»; во втором – словно бы обращая против Христа его же риторическое оружие. Можно, разумеется, поставить вопрос о неконтингентной семантической связи между двумя текстами ввиду общей для них полемичности по отношению к своим библейским подтекстам. Однако столь изощренный подтекстуальный прием никак не сочетается с поэтикой позднего Заболоцкого.
171
Примеры. 1. «Помню вас ребенком: / Хохотали вы, / Хохотали звонко / Под волной Невы» (Н. Олейников, «Карась», 1927). Эти строки приводят на память название главки из многотомной «Детской энциклопедии» 1914 г.: «Детские годы лосося» [ДЭ 1914: VII, 203]. С равной вероятностью мы имеем здесь дело с заимствованием либо конвергенцией. 2. «Парад не виден в Шведском тупике. / А то, что видно, – все необычайно. / То человек повешен на крюке, / Овеянный какой-то смелой тайной» (С. Красовицкий, «Шведский тупик», 1956?) ← «Морозный, тусклый день рисует предо мной / Картину зимнюю красы необычайной; / Покрытый инеем, недвижен сад немой. / Он замер, весь объят какой-то белой тайной» (А. Жемчужников, «Пауза», 1893). Другое стихотворение Красовицкого тех же лет, «Белоснежный сад», как будто подкрепляет предположение о заимствовании (семантическая цитация здесь, похоже, исключена), однако стихи Жемчужникова для 1950-х годов – довольно нехарактерное чтение, а совпадения между двумя текстами не выходят за рамки представимой конвергенции.
172
Примеры. 1. В связи с определением отравительница Федра, первоначально данным сценической героине Рашели в стихотворении «Ахматова» (1914), Л. Я. Гинзбург сообщает о подозрении В. М. Жирмунского, что Мандельштам не читал Расина, и добавляет: «Мне кажется, это можно истолковать и иначе. Мандельштам сознательно изменял реалии» [Гинзбург 1989: 42]. Но, думается, главный вопрос не в том, ошибся ли Мандельштам (на что как будто указывает замена этого определения другим по совету Лозинского [Ахматова 1990: II, 139]), а в вероятной семантической мотивировке его первоначального решения. Оно не может быть вполне объяснено ни словами Еврипидовой Федры, которые цитирует Анненский: «Я знаю, – говорит Федра, – чем различаются два стыда, и с той минуты, как я это узнала, мне уже никаким ядом не вытравить разделяющей их грани и не вернуться к прежнему безразличию» [Анненский 1979: 388], ни тем более позднейшей мандельштамовской фразой: «<…> директор Царскосельской гимназии долгие ночи боролся с Еврипидом, впитывал в себя змеиный яд мудрой эллинской речи <…>» (II, 75). Не было оно и инверсивной экстраполяцией способа самоубийства, о котором Федра у Мандельштама впоследствии скажет: «Смерть охладит мой пыл из чистого фиала» («Как этих покрывал и этого убора…»). Мне кажется, определение отравительница может свидетельствовать как раз не о плохом знакомстве Мандельштама с текстом Расина, а о реакции на один из его тонких смысловых нюансов. Если Федра Еврипида удавливается, не появляясь на сцене, то у Расина она, собрав последние силы, выходит к Тесею в финале трагедии, дабы поведать ему, что позволила оклеветать перед ним его сына и своего пасынка Ипполита и что ради этого признания выбрала для себя не быструю смерть от клинка, а более мучительную – от яда, доставшегося ей от Медеи. Этой последней деталью Федра напоминает Тесею о том, как Медея оклеветала перед Эгеем и подговорила отравить его сына и своего пасынка – Тесея, но в последний момент Эгей догадался, ктó перед ним, и предотвратил беду (сюжет восходит к Плутарху и Аполлодору). Сообщая Тесею, что отравилась тем самым ядом, который некогда предназначался ему, Федра намекает, во-первых, на то, что ей удалось именно такое злодеяние, в каком не преуспела Медея, и поэтому она должна, в силу перекрестной воздаятельной логики, убить себя так, как Медея тщилась убить своего пасынка, а во-вторых, на то, что Тесей не унаследовал проницательность своего отца (см. специальную работу по теме: [Wygant 2000]). Назвав Федру отравительницей, Мандельштам – быть может, невольно – откликнулся на мысль Расина. При этом, однако, он отсылал к релевантным аспектам персонального мифа Ахматовой, включая пчелино-осиные и змеиные компоненты ее образа, ассоциирующиеся с ядовитым укусом. (Ср. две другие интерпретации отравительницы Федры, придающие ключевое значение двум другим участницам треугольника – соответственно Ахматовой [Мандельштам 1990: 302] и Рашели [Перлина 2008].) Предложенная здесь интерпретация в основном повторяет одно из примечаний статьи [Сошкин 2014: 79–80]. 2. «Греки сбондили Елену по волнам» («Я скажу тебе с последней…», 1931) – не ляпсус, как часто полагают (см., напр., [Гаспаров М. 2001а: 16]), но отсылка к промежуточному подтексту – «Елене» Еврипида, «где Елену действительно крадут, крадут греки – Менелай – и где в сюжете играет большую роль то, что ее крадут “по волнам”» [Левинтон 1977: 167]. 3. Несообразность строки «Моисей водопадом лежит» («Рим», 1937) не исчерпывается тем всегда отмечаемым обстоятельством, что Моисей у Микеланджело не лежит, а сидит [Гаспаров М. 2001а: 16]: читателю приходится делать усилие, чтобы представить себе лежащим – водопад. Между тем стихотворение, написанное несколько раньше в том же марте 1937 г., начинается словами: «Я видел озеро, стоявшее отвесно». К этому образу и другим, смежным с ним, указаны параллели в «Путешествии в Армению»; отмечен и возможный подтекст (картина Е. Гуро) [Левинтон 1998: 754]. Но, как кажется, эта генеалогия более раннего из двух образов не помогает определить, содержит ли более поздний из них элемент автоцитации (а это означало бы, что Моисей лежит не по недоразумению). – О сознательном введении в текст «ошибки» в поэтике акмеистов (в частности, Мандельштама) см. [Тименчик 1986: 64].
173
Пример. Г. А. Левинтон предполагает (не приводя никаких аргументов), что Феррара в обоих «Ариостах» (1933; 1935) названа черствой (не только в связи с обстоятельствами биографии Ариосто, но и) потому, что от этого города отступило море [Левинтон 1998: 741]. Если гипотеза верна, то в подтексте образа и его контекста непременно должна лежать блоковская «Равенна» (1909), причем отношение текста к этому подтексту, по идее, должно быть таким же полемическим, каким было в 1930-е гг. отношение самого Мандельштама, о котором он прямо объявил в «Разговоре о Данте» (II, 170). Некоторые соответствия между «Ариостом» и «Равенной» в самом деле обнаруживаются: «Ты, как младенец, спишь, Равенна, / У сонной вечности в руках» ← «Мы удивляемся <…> под сеткой миних мух уснувшему дитяти», «Далёко отступило море, / И розы оцепили вал» ← «От ведьмы и судьи таких сынов рожала / Феррара черствая и на цепи держала» (ред. 1935; ср. строку стихотворения 1932 г. «К немецкой речи»: «И за эфес его цеплялись розы»). Но этих соответствий заведомо недостаточно для вынесения какого-либо вердикта: речь идет о слабых отголосках, которые нельзя даже квалифицировать как безотчетные заимствования. Можно подойти к проблеме с другой стороны: строка «О город ящериц, в котором нет души» находит себе параллель в очерке «Мазеса да Винчи», где упоминается о том, что в Феодосии, в верхнем городе – граде, «было так сухо, что ящерица умерла бы от жажды» (II, 267). Эта параллель в сочетании с мотивами воображаемого питья и морской влаги («Любезный Ариост, <…> В одно широкое и братское лазорье / Сольем твою лазурь и наше Черноморье. /…И мы бывали там. И мы там пили мед…»), ее соленого вкуса, передавшегося моллюску («…язык солено-сладкий / И звуков стакнутых прелестные двойчатки… / Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг»), а также иссякновения крови в жилах города («Который раз сначала, / Покуда в жилах кровь, рассказывай, спеши!», ред. 1933) делает намек на отступившее море уже вполне вероятным (сам же по себе образ ящериц в связи с темой ‘Ариосто и Феррара’ восходит к стихотворению Гумилева «Отъезжающему», 1913 [Гардзонио 2006: 180]). Но подозрение перейдет в уверенность или будет отброшено не ранее чем приведенные соображения будут рассмотрены в рамках целостной интерпретации двух «стакнутых» редакций «Ариоста» и окажутся релевантными либо нет для высших смысловых уровней произведения.
174
См. [Сошкин 2011: 204].
175
Ср.: «…референтная область стихов русской семантической [т. е. акмеистической. – Е.С.] поэтики – это культура <…>. <…> У Мандельштама и Ахматовой семантическая поэтика “работает” столь эффективно именно потому, что стихотворение полностью сохраняет все коммуникативные рамки исторического и метафизического хронотопов» [Сегал 2006: 235].
176
См. выше о концепции доминантного подтекста, выдвинутой О. Роненом.
177
Ср. в предисловии С. Т. Золяна и М. Ю. Лотмана к совместному собранию статей: «…оставалась определенная неудовлетворенность от <…> исследований [К. Ф. Тарановского и представителей его школы. – Е.С.]: <…> не были эксплицированы семантические механизмы соотнесения, с одной стороны, текста с его подтекстами, а с другой стороны, различных подтекстов одного текста между собой» [Золян, Лотман 2012: 12]. Нужно сказать, что это справедливое замечание, будучи высказано в рамках изложения побудительных импульсов к занятиям поэтикой Мандельштама, все же вызывает некоторое недоумение, поскольку работы обоих ученых заметного отношения к данной проблематике не имеют.
178
Если говорить о некотором корпусе важнейших работ о поэтике Мандельштама, то с интересующей нас точки зрения здесь выделяются статьи Е. А. Тоддеса, в которых придается особое значение преинтертекстуальным связям и нередко – инспирации полемического напряжения между двумя подтекстами, в т. ч. принадлежащими одному и тому же автору. Вместе с тем, как правило, Тоддес вскрывает полигенетичность отдельно взятого сегмента – разумеется, в его соотнесении с целым текста, но без установки на суммарный анализ всех известных его подтекстов (впрочем, большинство стихотворений, проанализированных ученым, относятся к ранним периодам творчества Мандельштама, когда важнейшие черты его поэтики еще не успели сложиться в систему). Редкий пример целенаправленной попытки очертить преинтертекстуальное поле смыслов, инспирированных текстом, содержится в работе, посвященной анализу «Черепахи»: [Левинтон 1977: 211 и др.].
179
Ср. утверждение Л. Я. Гинзбург о том, что для Мандельштама «[ч] итательская апперцепция существует <…> на разных уровнях. Но и при неполной апперцепции – какие-то реалии читателю неизвестны, вместе с ними утрачены решающие поэтические ассоциации, – контекст, он убежден, подскажет другие, основной своей направленностью подобные утраченным» [Гинзбург 1997: 358].
180
Ср. в связи с Пастернаком: «…нас манит не столько разгадка, которая может быть и чепухой на постном масле, сколько искусство шифра и азарт расшифровки» [Ронен 2012]. (Нужно, впрочем, подчеркнуть, что и у Пастернака семантика разгадки может иметь принципиальное значение; например, см. выше предполагаемую анаграмму имени Филомела в «Маргарите».)
181
Я говорю «как правило», поскольку мне известен следующий пример по видимости ненарративного гипотекста, семантический статус которого мне пока не ясен. Живя в Армении и изучая армянский, Мандельштам, как известно, увлекался теорией Марра, что не мешало ему относиться к ней скептически. Много позже, в 1937 г., у Мандельштама случился рецидив марризма: соответствующие мотивы зафиксированы в «Гончарами велик остров синий…» (где марровскую тему отметил В. И. Террас [1995: 26–27]) и «Флейты греческой мята и йота…» (где, как писал М. Л. Гаспаров О. Ронену в 1993 г., «стих “И слова языком не продвинуть…” перекликается с марровскими утверждениями, что речь далеко не сразу стала звуковой. (Мандельштаму они были не чужды, потому что почти то же самое писал Гумилев в “Слове” и “Поэме начала”) <…>» [Ронен 2006: 64]). Судя по всему, во втором из них анаграммируется фамилия академика: «… Комья глины в ладонях моря, / И когда я наполнился морем – / Мором стала мне мера моя…». (По версии Г. А. Левинтона, здесь в подтексте – название трактата Хлебникова «Время – мера мира», отд. изд. 1916 [Левинтон 1998: 739], – в пандан к уже упоминавшемуся выше подтексту из Хлебникова в «Гончарами велик…».) У этого приема имеются прецеденты – в черновиках «Путешествия в Армению» (выдал мне ГРАММатику МАРРА и отпустил с МИРОМ (II, 395)), а также, вероятно, в стихах 1930 г.: «Дикая кошка – армянская речь / Мучит меня и царапает ухо. / Хоть на постели горбатой прилечь… / О, лихорадка, о, злая моруха!» Неологизм «моруха – от глагола “морить” <…> по созвучию с “маруха”, любовница» [Гаспаров М. 2001: 775], и с «желтуха» из написанного тогда же «Как люб мне натугой живущий…» («Желтуха, желтуха, желтуха / В проклятой горчичной глуши!»). Кроме того, моруха анаграммирует мухомор, от которого тянутся нити к мухам («Ползают мухи по липкой простыне»), смертоносным грибам и Грибоеду (черн. вар.: «Там где везли на арбе Грибоеда, / Долго ль еще нам ходить по гроба, / Как по грибы деревенская девка») и Черномору («И Черномора пригубил питье»). Строки «Ползают мухи по липкой простыне / И маршируют повзводно полки / Птиц голенастых по желтой равнине», как я уже упоминал выше в иной связи, представляют собой реминисценцию мандельштамовского перевода из Стивенсона «Одеяльная страна»: «По холмам шерстяного одеяла, / По горам подушечной страны / Оловянная пехота пробежала / И прошли индийские слоны». Возможная мотивировка этой реминисценции – шотландское происхождение Н. Я. Марра. Экспликация шотландского семиозиса, специфически присущего мотиву милитаризации элемента постели – одеяла, простыни и т. п., имеет место в стихотворении «Полночь в Москве…» (1931), написанном спустя несколько месяцев после «Дикая кошка…»: «Есть у нас паутинка шотландского старого пледа, / Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру» (следующие два стиха неизбежно ассоциируются с балладой Роберта Бернса «Джон Ячменное Зерно», перевод которого вошел в сборник Э. Багрицкого «Юго-Запад» (1928, 2-е изд. 1930), – ср.: «Выпьем, дружок, за наше ячменное горе, / Выпьем до дна!» ← «Кто, горьким хмелем упоен, / Увидел в чаше дно – / Кричи: / – Вовек прославлен Джон / Ячменное Зерно!»; примечательно, что Багрицкий вместе с Зенкевичем выступал посредником в переговорах между Мандельштамом и редакцией «Нового мира», предполагавшей опубликовать «Полночь в Москве…» (I, 603)). Образ смерти-грибницы восходит к Хлебникову (чье творчество в восприятии Мандельштама, таким образом, возможно, коррелятивно по отношению к марровской теории; идея провести аналогию между учением Хлебникова о «самовитом слове» и едином мировом языке и яфетической теорией посещала на рубеже 1920–1930-х гг. Б. Я. Бухштаба [2008: прим xvi] и неоднократно высказывалась в наши дни, – см., напр., [Григорьев 2000: 80], [Гарбуз, Зарецкий 2000: 811], [Алпатов 2006: 6]; Е. А. Тоддес упоминает попытки современников Мандельштама сблизить анализ поэтического языка, в т. ч. языка Хлебникова, с идеями Марра [Рудаков 1997: 17; 30]): «Смерть с кузовком идет по года» («Опыт жеманного», 1908) [Амелин, Мордерер 2001: 119] (ср. также: «Падают вниз с потолка светляки» ← «согласно махнувшие в глазах светляки»); у Мандельштама он, по наблюдению Р. Д. Тименчика, скрещивается с реминисценцией стихотворения Батюшкова «К другу», «которое Мандельштам назвал “любимым стихотворением”, прибавив, что “хотел бы быть автором этого стихотворения”: “Минутны странники, мы ходим по гробам”» [Тименчик 1981: 70]. Спустя полгода оба обличья смерти – девки-грибницы и лихорадки-любовницы – соединятся в образе шестипалой неправды: «А она мне соленых грибков / Вынимает в горшке из-под нар, / А она из ребячьих пупков / Подает мне горячий отвар». (Ср. также ассоциацию с Джойсом – т. е. британскую, но при этом не английскую, – посетившую Н. Я. Мандельштам [2006: 254].) Горбатость постели в более раннем стихотворении объясняется именно тем, что она принадлежит кривде, т. е. неправде (ср. в варианте «Волка»: «И неправдой искривлен мой рот»). Мотив детоедства в «Неправде», согласно О. Ронену, основывается на «страшных былях <…>, оформленных в неподцензурной литературе» – в частности, в «Погорельщине» Клюева – «и в бытовых слухах» [Ронен 2002: 58]. Вместе с тем он может представлять собой, в сочетании с другими мотивами стихотворения, аллюзию на «Леди Макбет Мценского уезда», где повествуется о детоубийстве, об отравлении с помощью грибков («Поел Борис Тимофеич на ночь грибков с кашицей» [Лесков 1902–1903: XIII, 92]), о любовнице, перехватывающей инициативу (ср.: «– Захочу, – говорит, – дам еще. / Ну а я не дышу, сам не рад… / Шасть к порогу. Куда там! В плечо / Уцепилась и тащит назад»), о тюрьме, включая тюремную жизнь после отбоя (ср.: «из-под нар»; «Полуспаленка-полутюрьма»). Отвар из ребячьих пупков заставляет вспомнить и первоисточник, где у ведьм варятся в котле «селезенка / Богомерзкого жиденка <…> Пальчик детки удушенной, / Под плетнем на свет рожденной» (IV, 1; пер. М. Лозинского). Думается, и этот шотландский след подтверждает генетическую связь между «Неправдой» и стихами об армянской речи. Наконец, в свете проведенной Ю. И. Левиным аналогии между характеристикой Лермонтова в «Дайте Тютчеву стрекозу…» и мотивом ученья, которым отмечена лермонтовская тема в «Стихах о неизвестном солдате» («…“мучитель” имплицирует “учитель” <…>» [Левин 1979: 195]), а также (квази)семантического пересечения между этим имплицитным словом учитель и частью фамилии Лермонтов, имплицирующей нем. Lehrer ‘учитель’ и англ. to learn («…перед Фетом был Лермонтов-(м)учитель» [Лотман М. 1997: 60]), можно высказать предположение (не слишком уверенное), что и в строках «Дикая кошка – армянская речь / Мучит меня и царапает ухо» мотив мученья вводится в качестве звуко-семантического коррелята ученья, ведь их биографическим контекстом является изучение армянского языка, и что эта корреляция уже тогда, почти за два года до написания «Дайте Тютчеву стрекозу…», ассоциируется с именем Лермонтова, поскольку нападение дикой кошки на героя-повествователя в кавказской (не грузинской, но ближайшей к ней) обстановке – узнаваемо лермонтовский мотив. В таком случае не связан ли зачин стихотворения с шотландскими корнями Лермонтова? (Рассмотренный гипотекст находит себе аналогию в стихотворении Ахматовой «Наяву» (1946), где все подтексты указывают на Англию [Тименчик 1989а: 148]. Завороженность Шотландией присуща поэзии Г. Иванова, как показал А. В. Лавров [2006]. Кстати, цитируя в разных местах своей работы «Я не слыхал рассказов Оссиана…» (1914) Мандельштама и «Памяти Юрия Сидорова» <1910> С. Соловьева, Лавров забывает отметить теснейшую генетическую связь между этими текстами.)
182
Ср.: «Стихотворение “Твое чудесное произношенье…” потому и представляется этапным для истории символа телефона в русской поэтической культуре, что здесь произошло его окончательное и глубинное укоренение в ней, которое происходит именно тогда, когда символ вводится в высокий ценностный ранг неназываемого слова» [Тименчик 1988: 160].
183
Это отчасти справедливо уже в отношении младших символистов; ср.: «Согласно Вяч. Иванову, символ – составная часть мифа, но такая, которая, и оторвавшись от целого, сохранила в себе память об этом целом»; «Вместе с тем символ – не только бывший, но и будущий миф <…>; символ, “свернутый миф” остается его зерном, зародышем, способным вновь породить целостный текст <…>» [Минц 2004: 70].
184
Мандельштамовский принцип гипотекстуализации мифологического концепта либо коллизии, в том или ином виде явленных в каждом из подтекстов, по-своему развивает куда менее жесткую неоплатоническую установку символизма на детерминацию преинтертекста как всеобъемлющего мифологического инварианта. В символистском тексте «[в] роли “шифра”, раскрывающего значение изображаемого, выступают <…> всегда несколько мифов одновременно; очень часто они входят в разные мифологические системы; еще чаще на функции мифов и рядом с ними выступают “вечные” произведения мировой литературы, фольклорные тексты и т. д.; все это обеспечивает множественность значений образов и ситуации “неомифологического” текста <…> однако <…> все эти разнородные образы окажутся тайно (глубинно) “соответственными”: все они, с определенной точки зрения, – изоморфные варианты единого “Мифа”» [Минц 2004: 74].
185
Ср. также подходы к проблеме интертекстуальности, выработанные аналитиками символистской и постсимволистской формаций: [Смирнов 1995: 13].
186
Отголоски ритмических штудий Белого явственно различимы в мандельштамовских рассуждениях о четырехстопном ямбе, зафиксированных С. И. Липкиным [1994: 22–23].
187
См. [Тоддес 1986: 98] (с указанием источников).
188
См. прежде всего [Тоддес 1986], а также [Sola 1977], [Левинтон 1977: 138–139], [Rusinko 1979], [Ronen 1983: 11–12; 19], [Тименчик 1986: 59; 61; 70], раздел предисловия к публикации писем С. Б. Рудакова, написанный Е. А. Тоддесом [Рудаков 1997: 12–22], и др. См. также свидетельства Н. Я. Мандельштам ([2006: 172–180] и др.) – чрезвычайно субъективные, но в какой-то мере позволяющие судить об интенсивности участия Мандельштама в обсуждении филологических вопросов. О доминирующей филологической составляющей в культуре послереволюционного интеллигентского «быта», представителем и строителем которой был Мандельштам, и о понимании Мандельштамом филологии как явления домашнего быта (II, 71–72) см. [Сегал 2006: 25–30]. Ср. еще: «Нельзя понять поэзию Осипа Мандельштама и Велимира Хлебникова вне того, что обоим дал петербургский университет годов их учения, годов высокого расцвета филологии» [Берковский 1989: 481].
189
См., напр., [Фрейдин Ю. 1967], [Левинтон 1973], [Левинтон 1977: 165].
190
Так, например, Ахматову-пушкиноведа проблема литературных источников занимала в двух аспектах, которые без усилий могут быть отождествлены с областью подтекстов и контекста, или, иначе, поэтической речи и поэтического языка: в аспекте поисков «источника, послужившего основой для конкретного произведения» и в аспекте прослеживания «того, как отражается определенное произведение (или автор) в творчестве Пушкина» [Цивьян Т. 1971: 274–275]. Ср., например, запись П. Н. Лукницкого от 9.VII.1926: «Говорила, что сочла бы себя “мнительной” или “тронутой”, если бы все новые находки в области Пушкина – Шенье ложились бы на все новые и новые стихи, захватывали бы все большее количество стихотворений Пушкина. Тогда работа бы расползалась, и было бы ясно, что в основе работы лежит неправильность какая-то, происходящая от “мнительности” в смысле нахождения влияний. Но у АА получается иначе: все новые находки ложатся на те же стихотворения, в которых уже было найдено много. Работа как-то углубляется, исчерпывается, утончается. И каждая новая находка подтверждает что-нибудь от найденного раньше». См. также [Топоров 1973: 467–468], [Левин и др. 1974: 74], [Ronen 1983: XII–XIII], [Ораич 1988: 117] и др. Об общеакмеистической установке на филологизм см. [Лекманов 2000: 114].
191
См., например, употребление метафоры ‘гребень (волны)’ в «Буре и натиске» (II, 129) как цитацию работы Шкловского о Розанове [Тоддес 1986: 91].
192
Ср.: «Это не первый случай, когда русское произведение поможет понять античное: русская аграрная поэзия, например, бросает новый свет на “Георгики”» [Пумпянский 2000: 198].
193
О родственном эффекте «раскавычивания» цитаты при цитации рефрена см. [Сошкин 2005: 51–52].
194
См. [Смирнов 1979: 211–212]. Примером могут служить фиктивные эпиграфы в «Капитанской дочке», определяемые З. Г. Минц [2004: 327] как «не-цитата на функции цитаты». О приеме псевдоцитации в связи с акмеистической поэтикой см. [Lachmann 1990: 396 сл.].
195
Хотя подчас он мог принимать весьма специфический характер – например, болезненного беспокойства о расовой чистоте Афанасия Фета (см. [Вайскопф 2013]).
196
Мифический компонент генеалогии русских символистов заключается, с одной стороны, в их стремлении подчеркнуть свою независимость от европейского символизма, а с другой – в ощутимом расхождении между декларируемым наследованием тому же Тютчеву и весьма поверхностным соприкосновением с его поэзией на практике; см. [Гудзий 1930].
197
Ср. замечание Е. А. Тоддеса по поводу строк «Тяжка обуза северного сноба – / Онегина старинная тоска» («Петербургские строфы», 1913): эта замена «лирическо[го] я отсылкой» есть «одна из реализаций принципа, доминирующего у Мандельштама-акмеиста» [Тоддес 1994а: 91]. Ср. также характеристики поэтик «протоакмеистов» Комаровского и Анненского (соответственно): «…Не свое трансформировалось так, что стало возможным изображать с его помощью чужое, а в своем проступили вдруг черты, равно описывающие и свое и чужое. <…>» [Топоров 1979: 259]; «…мысль А. стремится освоить, сделать чужое “своим”» [Аникин 2011: 18].
198
Акмеистическая установка на освоение чужого угадывается и в прославлении тождества в «Утре акмеизма»: «А = А: какая прекрасная поэтическая тема. Символизм томился, скучал законом тождества, акмеизм делает его своим лозунгом и предлагает его вместо сомнительного a realibus ad realiora» (II, 26). В американском собрании сочинений имеется также сноска: «Формула символизма, данная Вячеславом Ивановым. См. “Мысли о символизме” в сборнике “Борозды и межи”. (Прим. Мандельштама)» [Мандельштам 1971: 324]. Однако непосредственный объект мандельштамовской аллюзии – это, по-видимому, следующее место из статьи Вяч. Иванова «Ницше и Дионис» (1904, вошла в кн. «По звездам»), на которое в этом качестве указал О. А. Лекманов [2000: 121]: «Дионис приемлет и вместе отрицает всякий предикат; в его понятии а не-а, в его культе жертва и жрец объединяются как тождество» [Иванов 1971–1987: I, 719]. Стало быть, на уровне реальнейшего ни жертва, ни жрец не тождественны самим себе, но тождественны друг другу и расподоблены этим тождеством: «а [=] не-а». По альтернативной версии [Rusinko 1982: 508] (на которую ссылается и Лекманов), процитированный фрагмент «Утра акмеизма» реминисцирует «Творческую эволюцию» Бергсона: «…Если я задаюсь вопросом, почему скорее существуют тела и души, чем ничто, я не нахожу ответа. Но то, что логический принцип, например, А = А, способен творить самого себя, побеждая в вечности небытие, кажется мне естественным. <…> Предположим же – как принцип, на котором основаны и проявлением которого служат все вещи, – существование того же рода, что существование определения круга или аксиомы А = А: тайна существования рассеивается, ибо бытие, лежащее в основе всего, полагается тогда в вечном, как и сама логика. <…>» [Бергсон 2001: 268]. Идея принципа тождества, который, по Бергсону, творит сам себя, пожалуй, действительно могла быть взята Мандельштамом на вооружение в контексте полемики с Ивановым. Но в таком случае мы имеем дело не с дизъюнкцией двух подтекстов на уровне анализа текста, а с их поляризацией в пространстве преинтертекста. Нужно отметить, что рассматриваемое здесь расхождение между символистами и акмеистами в принципе укладывается в модель исторической типологии культуры, выдвинутую Д. С. Лихачевым и затем развитую И. Р. Деринг-Смирновой и И. П. Смирновым. Согласно этой модели, в истории западных литературы и искусства последовательно чередуются примарные и секундарные (или, иначе, инверсионные) эстетические системы. Примарные системы, к которым относятся классицизм, реализм и постсимволизм, базируются на приравнивании знаков к референтам, тогда как секундарные, к которым относятся барокко, романтизм и символизм, базируются на приравнивании референтов к знакам. В аспекте цитации расхождение между символизмом как секундарным стилем и постсимволизмом как примарным стилем проявляется в том, что символизм маскирует свое под чужое и тяготеет к имитации чужого слова (т. е. придает своему, являющемуся референциальной данностью, видимость чужого, представляющего собой референциальную фикцию), а постсимволизм интериоризирует чужое слово, абсорбирует его до полного растворения в своем [Смирнов 2000: 18; 22]. (Делая это последнее утверждение, И. Р. Деринг-Смирнова и И. П. Смирнов опираются на процитированные выше тезисы О. Ронена.) Вместе с тем по отношению к акмеизму сама эта модель представляется не вполне адекватной ввиду его трагически мотивированной семиотической антитетичности, о которой уже говорилось выше: придавая знакам (чужому слову, чужому языку) качество референтов, акмеизм сохраняет за ними их знаковость, наделяет их транзитивным семиозисом; более того, он на тех же основаниях семиотизирует и предметный мир как один из своих подтекстуальных ресурсов.
199
Вместе с тем, должно быть, по праву принадлежности к следующему после символистов литературному поколению, он чувствовал себя уже настолько раскованно и комфортно в кругу поэтов минувших эпох, что не чурался ни шутливой апострофы («Стихи о русской поэзии», 1), ни даже «симуляции» личной встречи и беседы с одним из своих кумиров («Батюшков»). Эта развязность – своего рода отвлекающий жест: под видом беззаботной болтовни Мандельштам делится сокровенным, с тем чтоб впоследствии, в заведомо серьезном тексте, демонстративно вернуться к мотивам по видимости легкомысленного претекста. В двух некрологических произведениях (стихотворении на смерть Андрея Белого «Голубые глаза и горячая лобная кость…» и «двойчатке» памяти Ольги Ваксель) Мандельштам апеллирует к двум своим более ранним «шуточным» текстам: «Дайте Тютчеву стрекозу…» и «Жил Александр Герцович…» (см. об этом в гл. I и III соотв.).
200
В конце статьи «Письмо о русской поэзии» (1922) Мандельштам характерным образом высказывается о русском поэтическом пространстве в аграрных терминах: «Право же, дурная поэзия изнурительна для культурной почвы, вредна, как и всякая бесхозяйственность» (II, 59). О мандельштамовском восприятии мира как «хозяйства» см. [Тоддес 1988: 204–205].
201
Ср., в частности, стремление Мандельштама «отобрать» «у старшего литературного течения канонизированного им поэта» – Верлена [Тоддес 1974: 22].
202
См. об этом, в частности, [Левин 1998: 149]. Концепция читателя как исполнителя предвосхищает теорию Ингардена. Очевидно, ее воспринял от Мандельштама С. Б. Рудаков, утверждающий, между прочим, что «жизнью явления искусства оказывается его восприятие всеми, кроме самого автора» («Город Калинин», III).
203
По поводу приведенной цитаты Е. А. Тоддес замечает: «Слово “исторический” может пониматься здесь в собственном значении <…> и в значении “историко-литературный”, которое приближает к ОПОЯЗу с его убеждением в неадекватности традиционных прочтений классики» [Тоддес 1986: 85]. Ср. далее по поводу «Разговора о Данте»: «… посылка Мандельштама: “Слава Данта до сих пор была величайшей помехой к его познанию” – аналогична подходу ОПОЯЗа к русским авторам XIX века» [Там же: 86]. Ср. перекликающиеся с тыняновскими идеи ряда поэтов-модернистов насчет забытости поэта как факторе, обеспечивающем ему право на внимание со стороны квалифицированного читателя – филолога (ср. также упоминание в этом контексте стихов Мандельштама об Озерове) [Тименчик 1986: 65–68].
204
Ср. соображения А. Г. Меца в предисловии к публ. [Рудаков 1997: 24], а также В. И. Хазана [1992: 33].
205
Ср., напр., замечание В. Ф. Маркова относительно первой половины творчества Вяземского: «Для этого первого периода характерна “внешняя” цитата. Обычно это перефразированная цитата из друга в послании, обращенном к этому другу» [Марков 1967: 1275].
206
По поводу строки «Как беличья распластанная шкурка» («Tristia», 1918), неточно воспроизводящей ахматовскую – «Как беличья расстеленная шкурка» («Высоко в небе облачко серело…», 1911), Е. А. Тоддес отмечает, что у Ахматовой «[в] 8-м и 9-м изд. “Четок” “расстеленная” заменено на “распластанная”, т. е. стих принял тот же вид, что у Мандельштама. Этот вариант дан и в сборнике “Из шести книг” (1940)» [Тоддес 1994а: 107].
207
Ср.: «…прием загадки ведет к активизации получателя, как и все другие приемы диалогического общения поэта с создаваемой им определенной моделью идеального собеседника, читателя в потомстве» [Ронен 2002: 38]; «В мандельштамовской лирике 30-х гг. полифонический принцип достигает высшей степени своего развития <…>» [Там же: 40]; «…у позднего М. доминируют установки на адресанта, адресата и контакт, то есть экспрессивная, конативная и фатическая функции» [Левин 1998: 126].
208
Параллельно выявлялись гипотетические приемы, основанные на межъязыковой омонимии. Г. А. Левинтон отметил каламбурную игру с именем Фета и его немецким фонетическим эквивалентом (Фет/fett) [Левинтон 1979: 33]. Ю. И. Левин провел аналогию между характеристикой Лермонтова в ДТС и мотивом ученья, которым отмечена лермонтовская тема в «Стихах о неизвестном солдате» («И за Лермонтова Михаила / Я отдам тебе строгий отчет, / Как сутулого учит могила <…>» и др.): «…“мучитель” имплицирует “учитель” <…>» [Левин 1979: 195]. М. Ю. Лотман в статье 1994 г. пошел дальше, указав на интерлингвистическую смысловую эквивалентность части слова мучитель и части фамилии Лермонтов (как намека на нем. Lehrer ‘учитель’) в ДТС: «…для Мандельштама типичен ввод двух иноязычных слов подряд, так, жирному карандашу Фета предшествовал Лермонтов (м)учитель» [Золян, Лотман 2012: 162]. Л. Р. Городецкий подтвердил актуальность присутствия учителя в составе мучителя посредством апелляции к тексту стихотворения «Голубые глаза и горячая лобная кость…» (которое, как известно, содержит автоцитаты из ДТС): «Бирюзовый учитель, мучитель, властитель [НАД НАМИ ВОЛЕН. – Л.Г.], дурак!». Он же соотнес фамилию Лермонтов с нем. Marterleben ‘мученическая жизнь’ на основе их эквиконсонантности [Городецкий 2008: 272–273]. О. Заславский [2012: 78] предложил другой эквивалент – фр. Le tourmenteur ‘мучитель’. Для последовательности консонантов, входящих в состав имени Баратынского, – брт(н) – Г. Г. Амелин и В. Я. Мордерер подобрали следующие немецкие соответствия: «а). raten – “отгадывать” <…> (“догадайтесь почему?”). | b). Wegbereitung – «прокладывание пути» <…> c). Bort – “прошва, кромка” (“без всякой прошвы наволочки облаков”. Вслед за тучами Тютчева [с которыми, как ранее пояснили соавторы, сближал его фамилию Хлебников. – Е.С.] и тучностью Фета пришел черед и облакам Боратынского. | d). Bart – “борода” (“Хомякова борода”)» [Амелин, Мордерер 2001: 30–32] (вариант (с) практически совпадает с [Кацис 1991: 76]). Ср. также: «(а) ПОДОШВЫ = Sohlen ‘подошвы, (разг.) ложь, враки’ → смысл: “враки Боратынского раздражают (возмущают, изумляют)” | (б) БОРАТЫНСКОГО → (эквиконс.) (borstig ‘резко, раздражительно, невероятно’, Bitternis ‘горечь, огорчение’) → РАЗДРАЖАЮТ [ВОЗМУЩАЮТ, ИЗУМИЛИ] | (в) <…> ОБЛАКОВ → Wolken ‘облака’ → (эквиконс. VLKN) НАВОЛОЧКИ» [Городецкий 2008: 272]. Наконец, Амелин и Мордерер [2001: 33] расслышали в слове просохли черновой редакции нем. Sohle ‘подошва’, подкрепив это наблюдение прецедентным приемом: «Для того ли разночинцы / Рассохлые топтали сапоги <…>» («Полночь в Москве…», 1931). Помимо поиска языковых подтекстов предпринимались попытки произвольно (т. е. без выявления подтекстообразующих приемов) представить поэтов-романтиков, поименованных в ДТС, в качестве масок, под которыми будто бы скрываются современники Мандельштама (см. [Кацис 1991], [Григорьев 2000: 640]).
209
Позднее это предсмертное стихотворение подскажет Вячеславу Иванову суммарную характеристику Фета: «И задыхающийся Фет / Пред вечностию безнадежной» («Таинник ночи, Тютчев нежный…», 1944). Ср. также строки Фета «Покуда на груди земной / Хотя с трудом дышать я буду <…>» («Еще люблю, еще томлюсь…», 1890), давшие название циклу Брюсова «На груди земной» (1910–1911).
210
Строки о Фете, как показал Б. М. Гаспаров в более ранней работе, знаменуют резкую переоценку его фигуры и – по умолчанию – фигуры Пастернака, которого в 1920-х годах Мандельштам считал продолжателем фетовской линии, тогда оценивавшейся им безусловно позитивно. Следы этой переоценки Гаспаров усматривает и в стихотворении о лесе из «Стихов о русской поэзии», где фраза «Тычут шпагами шишиги, / В треуголках носачи» будто бы метит в Фета, бастарда с еврейским носом, на склоне лет наконец преобразившегося в камергера Шеншина с треуголкой и шпагой (явно подразумевается, что мандельштамовская параллель Фет – Пастернак включает в себя и еврейство последнего, для Пастернака весьма болезненное) [Гаспаров Б. 1994: 154–157]. Эту интерпретацию можно подкрепить ссылкой на воспоминания Горького о Льве Толстом <1919>, где Толстой изображен этаким сказочным лесным существом, прыгающим с кочки на кочку по мокрому лесу (ср. «тычут шпагами» – действие, сопровождающееся прыжками), и на устах у него – имена Шеншина (который словно бы и после смерти обитает в этих местах) и Шопенгауэра, с таким же, как и в стихах Мандельштама, утроенным звуком ш: «Был осенний хмурый день, моросил дождь, а он, надев тяжелое драповое пальто и высокие кожаные ботики – настоящие мокроступы, – повел меня гулять в березовую рощу. Молодо прыгает через канавы, лужи, отряхает капли дождя с веток на голову себе и превосходно рассказывает, как Шеншин объяснял ему Шопенгауэра в этой роще» [Горький 1955: 416].
211
Об «инвариантн[ой] мандельштамовск[ой] лейттем[е] ‘мертвого, отравленного, отнятого воздуха’, ‘затрудненного дыхания’» см. также [Хазан 1992: 225–228] (там же литература вопроса).
212
На это было указано К. Ф. Тарановским во время его мандельштамовского семинара в Гарварде (1968) [Ронен 2002: 32–33] и примерно тогда же И. М. Семенко в общении с Н. Я. Мандельштам, работавшей над комментарием к стихам 1930–1937 гг. [ЖиТ 1990: 223].
213
Семантическая смежность мотивов подушки и духоты стимулируется, во-первых, аллитерацией поДУШКА – ДУШНО (ср., например, у Лермонтова в «Демоне», II: VI: «Подушка жжет, ей душно, страшно»), а во-вторых – расхожим мотивом удушенья подушкой.
214
Процитированная фраза из «Шума времени» находит себе параллели в «1 января 1924»: «…Больные веки поднимать / И с известью в крови <…> Ночные травы собирать. // Век. Известковый слой в крови больного сына / Твердеет. <…> И известковый слой в крови больного сына / Растает <…>» [Ronen 1983: 259–261]. Образ склеротического известкового загустевания крови О. Ронен комментирует финальными словами статьи «Буря и натиск» (1923): «До сих пор логический строй предложения изживался вместе с самим стихотворением, то есть был лишь кратчайшим способом изложения поэтической мысли. Привычный логический ход от частого поэтического употребления стирается и становится незаметным как таковой. Синтаксис, то есть система кровеносных сосудов стиха, поражается склерозом. Тогда приходит поэт, воскрешающий девственную силу логического строя предложения. <…>» (II, 139). Ср. в «Разговоре о Данте» о XXVI песне «Ада»: «Это песнь о составе человеческой крови, содержащей в себе океанскую соль. Начало путешествия заложено в системе кровеносных сосудов. Кровь – планетарна, солярна, солона… | Всеми извилинами своего мозга Дантовский Одиссей презирает склероз <…>. <…> Обмен веществ самой планеты совершается в крови – и Атлантика всасывает Одиссея <…>» (II, 179).
215
Ср. также догадку о том, что в стихотворении цикла «Армения» стрекочет содержит намек на стрекозу, поскольку водяная дева является калькой нем. Wasserjungfer, обозначающего стрекозу. «Кроме того, – добавляет исследователь, – отдельное слово Jungfer = ‘стрекоза, дева’. Эта связь, по-видимому, работает в “Дайте Тютчеву стрекозу…”» [Городецкий 2008: 262]. Иными словами, Тютчеву под видом стрекозы, возможно, вручается дева. Добавлю, что выявленный Городецким прием воспроизводит на языковом уровне референциальную подмену в ДТС тютчевской стрекозы (т. е. кузнечика или цикады) стрекозой в значении libellula и тем самым верифицирует эту подмену, которая никак не явствует непосредственно из текста ДТС и лишь реконструируется по тексту позднейшего «Голубые глаза и горячая лобная кость…» (этой проблеме посвящена специальная работа [Успенский Ф. 2008: 9–72]).
216
Эта контаминация восходит к «Грифельной оде», как бы окольцованной стихом «Кремень с водой, с подковой перстень», звучащим в начале и в конце стихотворения [Ronen 1983: 88].
217
Именно так обстоит дело с другой розой – в написанных несколькими неделями ранее стихах о Батюшкове, что «Нюхает розу и Дафну поет». О яркой теме обонятельных ощущений в «Стихах о русской поэзии» см. [Гаспаров Б. 1994: 138–140].
218
Ср. [Левинтон 1977: 166].
219
См. [Грибушин 1976]. В отличие от мимоходом упоминаемой О. Роненом [2002: 35] более ранней лирики Пушкина, отмеченной воздействием «Трех роз» [Благой 1967: 148–149], «Отрывок» написан явно в расчете на немедленное узнавание веневитиновского подтекста как объекта поэтической полемики.
220
Ср.: «…Похоронили его [Веневитинова. – Е.С.] с перстнем на руке, но перстень есть и у Пушкина, а то, что принадлежит Пушкину, не может принадлежать никому…» [ЖиТ 1990: 223]. Параллельно с Н. Я. Мандельштам и более аргументированно та же мысль высказана О. Роненом: «…Мандельштам наверное не раз видел в Царскосельском музее Пушкина [точнее – лицейском, в Пб-ге. – Е.С.] перстень с др. – еврейской надписью, по поводу которого был написан “Талисман”. Этот перстень был подарен Пушкиным на смертном одре Жуковскому, позже он перешел в руки Тургенева, а после его смерти был передан в Пушкинский музей и исчез в 1917 г. <…> Так и перстень в стихотворении Мандельштама не достается никому из поэтов, но служит напоминанием об отсутствующем» [Ронен 2002: 34]. Атрибуцию перстня Пушкину оспаривает Н. А. Богомолов: «Думается, что дело обстоит проще: перстень – общее место в литературе пушкинской эпохи. Помимо перстней Веневитинова и Пушкина, повесть “Перстень” есть у Баратынского, упоминаемого в следующей же строке [ДТС], стихотворение “Перстень” – у Языкова, “Поликратов перстень” – у Жуковского и др. Перстень ничей, потому что общий» [Богомолов 2004: 107].
221
Ряд общеизвестных текстов нач. 1820-х – 1830-х гг. фокусируются на проблеме обладания перстнем или кольцом. В пушкинском «Женихе» (1825) злодей рубит своей жертве руку с кольцом, которое, очевидно, сам ей надел, и эта ампутация есть символический акт разрывания брачных уз (тогда как пушкинский источник – сказка братьев Гримм – не содержит этого немотивированного действия: разбойник пытается снять кольцо с пальца убитой девушки и, не сумев, отрубает палец, который и попадает к свидетельнице в качестве банального «вещдока»); кольцо, снятое с отрубленной руки Наташей, изменяет ее статус: «Синяя Борода» не может надеть ей освободившееся кольцо, ибо оно уже и так у нее, что делает ее как бы перевоплощением жены убиенной (cр. [Вайскопф 2003: 7]); с другой стороны, действие жениха, выражающееся формулой «просить руки», в пушкинской сказке брутально буквализируется (ср. слова свахи «Не по рукам ли»). Две переводные баллады Жуковского (из Шиллера) добавляют к веневитиновскому мотиву (невозможности забрать перстень – этот залог любви, который следует свято хранить, – с собой в небытие) два других, взаимодополняющих: неспособности овладеть перстнем и неспособности избавиться от него. В «Кубке» (1825–1831) паж, нырнув повторно за кубком, не возвращается назад, где его ждет награда – перстень с алмазом и рука царевны, а в «Поликратовом перстне» (1831) драгоценность как знак проклятия возвращается к царю, отвергнутая богами и извлеченная из рыбьего брюха. О невозможности распаять на огне обручальное кольцо – «Перстень» (1830) Кольцова, переименованный затем в «Кольцо» (ср. у Мандельштама: «Я около Кольцова / Как сокол закольцован», 1937). В «Коньке-горбунке» (1834) Ершова Царь-девица требует от жениха-царя доставить ей перстень со дна океана, и выполнению этой задачи, возложенной на Ивана, в сказке уделено порядка 600 стихов. Имеет отношение к нашей теме и травестийная повесть Баратынского «Перстень» (1831–1832), причем не только благодаря своему названию (см. комментарий П. М. Нерлера в [Мандельштам 1990а: I, 523]), но и по существу: центральный персонаж верит сам и стремится внушить другим, что он, во-первых, бессмертен (ему якобы 450 лет), а во-вторых, должен, наподобие джинна, исполнять любые пожелания того, кто в текущий момент владеет неким магическим перстнем; безумец умирает, а перстень возвращается к виновнице его безумия.
222
Ср.: «Природа вновь цветет и роза негой дышит!» (И. Дмитриев, «Эпитафия», 1827); «Благословим <…> / Его полет в страну эфира, / <…> где воздух слит из роз» (В. Туманский, «В память Веневитинова», 1827).
223
См. [Кацис 1991: 76].
224
Подготовительную аллюзию на Баратынского содержит и строфа чернового автографа, располагавшаяся между 1-й и 2-й строфами основной редакции; ср.: «…Уже готов у моды ты / Взять на венок своей камене / Ее тафтяные цветы <…>» («К***», 1827) → «Как наряды тафтяные / Прячут листья шелка скрип».
225
Ср. [Гаспаров Б. 1994: 137–138]. Об эсхатологии Петербурга см. прежде всего [Топоров 2009: 664–693]. Также см. [Лотман, Минц 2000: 340] и [Осповат, Тименчик 1985: 94] – о фантазиях на тему нереальности туманного Петербурга и его исчезновения подобно дыму, характерных для творчества Достоевского; [Хазан 1992: 163] – о Петербурге как городе-утопленнике в стихотворении Мандельштама «Императорский виссон…» (1915) и пр.
226
Интересно, что в «Феодосии» (1923–1924) в одном и том же контексте появляются «жалкий глиняный Геркуланум, только что вырытый из земли» и «крикливое женское вече» (гл. «Старухина птица»).
227
Посвященная этому вопросу статья Б. М. Гаспарова [1994: 124–161] имеет красноречивое название – «Сон о русской поэзии».
228
Ср. в предсмертном стихотворении Фета, ключевом для стихов 11–12: «Привет Ваш – райскою струною / Обитель смерти пробудил, / На миг вскипевшею слезою / Он взор страдальца остудил. // И на земле, где всё так бренно, / Лишь слез подобных ясен путь: / Их сохранит навек нетленно / Пред Вами старческая грудь».
229
Упоминание бороды, отдельной от ее обладателя (ибо «На гвоздях торчит всегда»), но «богохраним[ой]», получило в газетной заметке Е. А. Евтушенко [2004] элегантное объяснение: Мандельштам намекает на официальное запрещение славянофилам носить бороды (действовало с конца 1840-х до начала 1860-х гг.). Интересную параллель к этой догадке составляют стихи Бенедиктова, по стиховым параметрам идентичные ДТС, в которых воспето учреждение той самой нормы, против которой восставали славянофилы: «И державный наш работник / Посмотрел, похмурил взор, / Снова вспомнил, что он плотник, / Да и взялся за топор. // Надо меру взять иную! / Русь пригнул он… быть беде! / И хватил ее родную / Топором по бороде: // Отскочила! – Брякнул, звякнул / Тот удар… легко ль снести? / Русский крякнул, русский всплакнул: / Эх, бородушка, прости!» («Малое слово о Великом», 1855).
230
Ср. два зачина, в которых каждая параллель мною выделена особо: «Когда в замирает / Лихорадочный форум <…>» (1918); « в . Роскошно буддийское . / С дроботом мелким расходятся улицы <…>» (1931).
231
Другой пушкинский подтекст – «Пир во время чумы», который реминисцируют такие мотивы, как полночный пир и глухие удары копыт [Хазан 1992: 148].
232
С этой акцентировкой необратимости катастрофы вполне согласуется тема последнего дня Помпеи как одна из предложенных импровизатору в «Египетских ночах» (написанных в следующем году): однодневная жизнь, предстоящая помпейцам, вся должна состоять из поступков и действий, аналогичных самому акту импровизации, так как эти поступки не могут быть ни повторены, ни отсрочены, ни тщательно обдуманы и подготовлены, ни исправлены.
233
Этот смысловой ход отчасти родственен мысли Гоголя из его рецензии на картину Брюллова, где совершённое посредством искусства возвращение помпейских жертв в их состояние перед гибелью и дарование им бессмертия в этом остановленном мгновении предстает одновременно и возрождением великого искусства [Медведева 1968: 103; 110]. В упрощенном виде это сформулировано Баратынским в приветственных стихах, обращенных к Брюллову (1835): «…И был последний день Помпеи / Для кисти русской первый день».
234
Как было, например, в «Последнем дне Помпеи» Э. Легуве, переведенном (<1837>) Полежаевым: «Взгляните ж – в дымных облаках / Вот мать с младенцем на руках! / Едва залог любви прекрасной, / Невинный сын увидел день, / Как разлилась над ним ужасно / И навсегда ночная тень», и далее.
235
Этот «эффект Помпеи и Геркуланума», воспетый Меем в «Плясунье» (1859), которую Мандельштам предполагал включить в составлявшуюся им в 1922 г. антологию (см. [Мандельштам Н. 1970: 257]), и Брюсовым в «Помпеянке» (1901), симметричен «эффекту Петербурга», о котором Л. Е. Галич писал в 1914 г.: «Мы <…> не знаем, что живем в сказке, что этот город не простой, не естественный, что он не вырос, как растут поселения, медленным природным развитием, а пригрезился однажды Петру и так и затвердел, как пригрезился. Уплотнился, опустился на землю, стал оформленным, вещественным, каменным. Город, порожденный мечтою. Это, кажется, единственный случай, недаром столь пленительный для поэтов» (цит. по: [Осповат, Тименчик 1985: 136]).
236
Как отмечает И. Н. Медведева, Гоголь при работе над рецензией мог опираться на высказывания итальянских знатоков искусства, процитированные в «Библиотеке для чтения» (1834, т. I), в том числе на свидельство П. Висконти (1833) о том, «что Брюллов ознакомился с “жертвами ужасного бедствия, которые в виде скелетов были найдены при раскопках, в объятьях друг друга, или спрятавшимися в подземельях, где погибли они от голода <…> Художник с большим искусством воспользовался этими показаниями; он воскресил своей кистью давно истлевшие фигуры и группы <…>”» [Медведева 1968: 108].
237
Ср. в его «Помпеянке»: «Века прошли; и, как из алчной пасти, / Мы вырвали былое из земли. / И двое тел, как знак бессмертной страсти, / Нетленными в объятиях нашли».
238
Герой повести видит во сне, как его Градива легла и заснула около храма Аполлона, и отождествляет ее с помпеянкой, которую на этом самом месте выкопали в объятиях возлюбленного.
239
Возможно, стихотворение Мицкевича «Памятник Петру Великому» (предположительно датируется маем 1832 г.), на которое Пушкин, выведенный в нем, сослался затем в примечаниях к «Медному всаднику», обязано сказке Жуковского (написанной в рамках творческого соревнования с Пушкиным и напечатанной в январе того же года) аллегорическим сравнением Фальконетова монумента с замерзшим водопадом: «…Одним прыжком на край скалы взлетел, / Вот-вот он рухнет вниз и разобьется. / Но век прошел – стоит он, как стоял. / Так водопад из недр гранитных скал / Исторгнется и, скованный морозом, / Висит над бездной, обратившись в лед. – / Но если солнце вольности блеснет / И с запада весна придет к России – / Что станет с водопадом тирании?» (пер. В. Левика). Ср.: [Якобсон 1987: 168–169].
240
Ф. З. Канунова, автор комментария к новейшему изданию поэмы, оспаривает отнесение ее замысла к столь ранней дате: [Жуковский 2009: 537–539].
241
Ср. деталь, сообщаемую Плинием Младшим, чьи письма к Тациту – единственное достоверное свидетельство об извержении Везувия: дядя автора, умерший от удушья, «походил скорее на спящего, чем на мертвого» [Плиний Мл. 1950: 177].
242
Данный подтекст хорошо согласуется с общим сказочным колоритом «Стихов о русской поэзии» (содержащих, в частности, реминисценцию «Сказки о царе Салтане» [Гаспаров Б. 1994: 145]), а также с тем, что позднее Мандельштам использовал детали другой сказки Жуковского (о царе Берендее) в стихотворении 1936 г. «Оттого все неудачи…» [Ронен 2010а: 76].
243
Ср. впоследствии образ стрекало воздуха в связи с осами: «О, если б и меня когда-нибудь могло / Заставить <…> Стрекало воздуха и летнее тепло / Услышать ось земную, ось земную…» («Вооруженный зреньем узких ос…», 1937). Ср. также у Белого скрытое уподобление стрекоз – алмазам, режущим стекло: «…Слетит веселый рой на стекла / Алмазных, блещущих стрекоз» («Зима», 1907). Рецепция этих финальных строк очевидна в финале мандельштамовского «Медлительнее снежный улей…» (1910) [Тарановский 2000: 34–35], где, впрочем, при сохранении всех релевантных семантических единиц, исходный троп отсутствует: «И, если в ледяных алмазах / Струится вечности мороз, / Здесь – трепетание стрекоз / Быстроживущих, синеглазых». См. также [Хазан 1992: 178].
244
Цитируя мои выкладки по первой публикации, мне возражают: «На самом деле и подошвы не выпадают из этого ряда, так как очевидно, что они подбиты гвоздями, которые одновременно и “раздражают прах веков” вместе с подошвами, и направлены в сторону “стопы” поэта. Способность к “раздражению” оказывается двусторонней – относящейся как к объекту (предшествующей мировой культуре), так и субъекту (творцу)» [Заславский 2012: 80]. Для Мандельштама подошвы действительно находятся в семантическом соседстве с гвоздями и стиховыми стопами – по крайней мере, так явствует из написанного вскоре «Разговора о Данте» (Г. Г. Амелин и В. Я. Мордерер [2001: 31] приводят соответствующее место именно в связи с подошвами Баратынского): «Если первое чтение вызывает одышку и здоровую усталость, то запасайся для последующих парой неизносимых швейцарских башмаков с гвоздями. Мне не на шутку приходит в голову вопрос, сколько подметок, сколько воловьих подошв, сколько сандалий износил Алигьери за время своей поэтической работы, путешествуя по козьим тропам Италии. <…> Стопа стихов – вдох и выдох – шаг» (II, 416). Тем не менее мне кажется огромной натяжкой допущение О. Заславского, что подошвы раздражают прах веков шляпками неупомянутых гвоздей, обращенных остриями к стопе, а его идея о том, что объектом раздражающего воздействия является также и обладатель подошв, и вовсе беспочвенна.
245
Ср. позднейшую попытку установить более широкие контекстуальные зависимости: [Ronen 1983: 259]. См. также [Ićin, Jovanović 1992: 27].
246
Исключение составляют «Честолюбие» Козьмы Пруткова как предполагаемая структурная модель ДТС [Кацис 1991: 83] (в письме 1971 г. к В. Ф. Маркову О. Ронен обсуждает аналогичное допущение своего корреспондента и склоняется к тому, что отправной точкой Мандельштаму послужила не пародия Пруткова, а пародируемая фигура, т. к. стихи Мандельштама «во всем, кроме ритма, принадлежат не к прутковской традиции, а к лицейско-арзамасской» [Ронен, Марков 2014]), а также разной степени убедительности подтексты, предлагавшиеся для черновой строфы «А еще богохранима…». Таковы (помимо очевидной автоотсылки к «Эта ночь непоправима…», 1916): «К И. В. Киреевскому» (1848) и «Широка, необозрима…» (1858) Хомякова [Ронен 2002: 37], [Тоддес 1999: 231], «Малое слово о Великом» (1855) Бенедиктова (см. выше), «Кумир Небукаднецара» (1891) Соловьева [Кацис 1991: 79], «У ворот Иерусалима…» (1920) Гумилева [Богомолов 2004: 110–112]. Строфа о Хомякове приводит на память и другие сочинения, повествующие о гибели города и ассоциируемые с кругом славянофилов. Одно из них тоже было написано четырехстопным хореем: «Начиная с [18]40-х годов “столица с именем чужим” была проклята славянофилами, и не удивительно, что виднейшим членам этого кружка – И. С. Аксакову и А. С. Хомякову – в разное время приписывалась “идиллия” [М. А. Дмитриева] “Подводный город” [1847]» [Осповат, Тименчик 1985: 95–96]. Другое – «драматическая пародия» К. С. Аксакова «Олег под Константинополем» (1835–1858), в которой Олег завоевывает и сжигает Царьград только для того, чтоб доказать потомкам, что является историческим лицом. Процитированное выше в качестве подтекста другой черновой строфы «К***» (1827) Баратынского относится к тому же отрезку времени, что и практически весь комплекс подтекстов основной редакции.
247
См. также [Виницкий 1997: 209–210].
248
Среди таких произведений – «Pot-pourri, или Чего хочешь, того просишь» (1833) В. С. Печерина, где представлена гибель древнего города. Обращаясь к его правителю – Поликрату Самосскому, памятному нам по балладе Шиллера – Жуковского, Хор утопающего народа поет: «Не за наши, за твои / Бог карает нас грехи. <…> И кометы вековой / Хвост виется за тобой <…>». Ср. также стихи В. Г. Теплякова из «Четвертой фракийской элегии» (1829), восторженно процитированной Пушкиным [1962–1966: VII, 429]: «По морю синего эфира, / Как челн мистического мира, / Царица ночи поплыла, / И на чудесные громады / Свои опаловые взгляды, / Сквозь тень лесную, навела. / Рубины звезд над нею блещут / И меж столбов седых трепещут; / И, будто движа их, встают / Из-под земли былого дети / И мертвый град свой узнают, / Паря во мгле тысячелетий…» (Во «Фракийских элегиях» и других стихах этого периода, отмечает В. Э. Вацуро, «Тепляков неоднократно возвращается к теме исторически бессмысленного круговорота общества, где каждую цивилизацию ждет неизбежная гибель; к теме мировых катаклизмов, уничтожающих культуры <…>» [П 1972: 596].) Надо отметить, что упоминаемый М. Вайскопфом эсхатологический взрыв в русском искусстве имел отзвук и на Западе: под впечатлением от картины Брюллова, виденной в 1833 г. в Милане, был написан роман Бульвер-Литтона «Последние дни Помпеи», отрывок из которого появился по-русски в «Московском наблюдателе» за июнь 1835 г. (кн. 2).
249
Об этом явлении применительно к русскому модернизму в целом см. [Осповат, Тименчик 1985: 112–113] и особенно [Паперно 1992].
250
Эту точку зрения оспаривает Е. А. Тоддес [1994a: 106].
251
См. обзор литературы вопроса: [Мейлах 1994].
252
Ср. также образ всплывшей Атлантиды в стихотворении «Когда заулыбается дитя…» (1936–1937).
253
Предшествующие публикации: К пониманию стихотворения Мандельштама «Дайте Тютчеву стрекозу…» // Text only, 21 (1’07)
254
Мотив прослеживается к басне Крылова (хотя у него и его предшественников, по тогдашней расплывчатой терминологии, Стрекозой назван лафонтеновский кузнечик; вопреки сомнениям, высказанным Г. А. Левинтоном [1977: 144], этот факт, надо полагать, был известен во времена Мандельштама достаточно широко, судя по мультфильму Владислава Старевича «Стрекоза и Муравей» (1913), где выведен именно кузнечик, причем филологический пафос этого режиссерского решения подчеркнут за счет того, что текст басни цитируется в субтитрах.) Ср. у Коневского в стихотворении «Рост и отрада» из цикла «Сын солнца» (1896): «…И вот однажды, лежа в забытье / Под деревом, в беспечный миг свободы, / Постиг он жизни детской хороводы / И стрекозы благое бытие. // “Ты, стрекоза, – гласил он, – век свой пела. / Смеяться, петь всю жизнь – да, это – дело / И подвиг даже… после ж – вечный сон”».
255
Впрочем, развернутое противопоставление Тютчева и Фета как мыслителей проведено было Иваном Коневским в статье «Мистическое чувство в русской лирике» (1900).
256
О символистском прочтении Тютчева в свете идей Шопенгауэра и о реальной степени соответствия брюсовских построений учению немецкого философа см. [Ханзен-Лёве 1999: 29, 103].
257
Эйхенбаум приводит якобы «совершенно шопенгауэровские строки» из стихотворения Тютчева «От жизни той, что бушевала здесь…», написанного во второй половине августа 1871 г., незадолго до встречи с Толстым, и высказывает предположение, что его тема и была «главной темой их беседы» [Эйхенбаум 1974: 177]. Ученый, по-видимому, опирается на то обстоятельство, что Толстой отметил данный текст в своем экземпляре стихотворений Тютчева буквами «Т. Г.!!!» (Тютчев. Глубина!!!), зачеркнув первые две строфы и оставив две последние (их-то Эйхенбаум и цитирует). Между тем сходная мысль выражена и в стихотворении «Весна», которое написано Тютчевым не позднее 1838 г. (когда труды Шопенгауэра были вообще мало кому известны) и в давней любви к которому Толстой признавался в письме 1858 г., задолго до своего увлечения немецким философом (см. [Тютчев 1965: I, 375]). Вообще, как кажется, философской основе суждений Толстого о поэзии придается чрезмерное значение; достаточно указать на то, что Толстой находил одинаково глубокими и стихотворения Тютчева «День и ночь» (1839) и «Святая ночь на небосклон взошла…» (1850), и прямо противоположное им по мысли «Среди звезд» (1876) Фета.
258
См. [Белый 1990: 440].
259
Это падение с ивы в пруд с книгой стихотворений Фета составляет интересную параллель к предположению Р. Г. Лейбова, что генеалогия жирных одышливых карандашей, скрещенных со снующими в камышах стрекозами, может включать в себя одышку и телесную конституцию Гамлета вкупе с участью, постигшей Офелию. Одно из стихотворений Фета, входящее в цикл «К Офелии», кончается просьбой: «Про иву, про иву зеленую спой, / Про иву сестры Дездемоны» («Я болен, Офелия, милый мой друг!..», <1847>). Это сближение двух героинь, каждая из которых перед смертью пела (одна про иву, другая – около ивы, склонившейся над потоком, на которую повесила сплетенные венки), могло быть распространено Мандельштамом и на характер смерти обеих, ведь каждая из них умерла, в конечном счете, от удушья (о теме удушья в тексте-антецеденте «Дайте Тютчеву стрекозу…» см. в гл. I). О фетовском интертекстуальном приеме в 1922 г. напомнил Пастернак, повторив его в стихотворении «Уроки английского» из книги «Сестра моя – жизнь» [Смирнов 1995: 116]. Согласно М. Безродному [1996: 131–132; 2010: 218], Офелия появляется ускользающей тенью и в другом стихотворении поминального цикла – «Он дирижировал кавказскими горами…»: «Рахиль гляделась в зеркало явлений, / А Лия пела и плела венок», – где сквозь Лию дантовскую (см. [Тарановский 2000: 103–104]) проступает (Офе)лия, тоже плетущая венок (ср. в цикле Фета «К Офелии»: «Офелия гибла и пела, / И пела, сплетая венки»). (По наблюдению М. Безродного [2010: 218], изображение Рахили, глядящейся в зеркало, и Лии, плетущей венок, опосредовано опытом Вяч. Иванова, «который в поэме “Сфинкс” и в сонете “Transcende te ipsum” тоже разрабатывает символику Рахили и Лии с опорой на “Чистилище”. <…>». Отмеченные М. Безродным соответствия между «Он дирижировал…» и «Transcende te ipsum» можно дополнить, обратившить к мандельштамовской черновой редакции: «И европейской мысли разветвленье / Он перенес, как лишь могущий мог: / Рахиль глядела в зеркало явленья, / А Лия пела и плела венок» ← «Два жала есть у царственного змия; / У ангела Порывов – два крыла. / К распутию душа твоя пришла: / Вождь сей тропы – Рахиль; и оной – Лия».)
260
У предшественников Фета встречаются тексты, целиком написанные нерифмованным Ан5: «Скиллодим» (1824) Гнедича [Гаспаров М. 1999: 227]; «Здесь весна, как художник уж славный, работает тихо…» (1859) Майкова [225]; ср. также идиллию В. И. Панаева «Ламон» (1818) с регулярным чередованием 5-стопных анапеста и амфибрахия [Шапир 1994: 76]. «Пример чистого анапеста, шестистопного и пятистопного» дает в статье «Анапест» «Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым» (СПб., 1821). Из рифмованных опытов я пока что обнаружил только отдельные двустишия (кстати, именно с мужскими окончаниями) в 5-й части цикла «Старые песни, старые сказки» (1846) Ап. Григорьева и стихотворение «Александр Невский» (1861) Мея. Наконец, Ан5 появляется в регулярной строфической позиции в рифмованных стихотворениях «Доброй ночи!.. Пора!..» (<1843, 1857>) Григорьева и «Огоньки» (1861) Мея. После Фета 5-стопным анапестом писали преимущественно в рифму (стихи С. Надсона, О. Чюминой, А. Будищева, С. Сафонова). В дальнейшем к этому размеру обращались Коневской, Бунин, Бальмонт, Брюсов, Блок, Гумилев, Ахматова, Цветаева, Поплавский и др. Ан5 целиком написана поэма Пастернака «Девятьсот пятый год» (1926); ей присущ явленный уже в названии рубленый ритм, который вместе с графическим оформлением стиха оказался в фокусе подражателей [Харджиев, Тренин 1970: 263–264], [Кукулин 1998: 132]. (Ср.: «Я заметил, что если перевернуть строки стихотворения “Золотистого меда струя…” так, чтобы оно начиналось строкой с женским окончанием, то получился бы этот метр, и не взял ли его невольно Пастернак у Мандельштама. <…> – Вздор, – отрезал Мандельштам. – У Пастернака другой ритм. Это ритм событий тех лет. Не путайте ритм с размером» [Липкин 1994: 23].) Из других опытов применения Ан5 в монументальном жанре надо упомянуть 3-ю главу поэмы Васильева «Соляной бунт» (1933). Яркое ритмическое своеобразие отличает стихотворение Б. Кузина «Друг, ты слышишь? – то ночь, еще сонная, еще глухая…» (1939).
261
См.: «После грез» (1895) и «Поликрат» (1897) Брюсова, «Возрождение» Бальмонта (из цикла «Тройственность двух», <1905>), «Вот знакомый погост у цветной Средиземной волны…» Бунина (1917), а также финал «Пожарного» <1921> Саши Черного и 1-е из «Восьмистиший» Берберовой – «В этот день был такой небывало протяжный закат…» (1927), написанное под заметным влиянием стихотворения Ахматовой 1922 г. «Небывалая осень построила купол высокий…» (об этом последнем в связи с его размером см. [Баевский 1997: 63–65]). Очевидно, под влиянием Мандельштама 5-стопным анапестом и в форме двустиший с ударными окончаниями написано стихотворение Б. Кузина «Если даже забыть все стоянки, ночлеги, пути…» (1943).
262
См.: [Харджиев 1973: 297]; [Тарановский 2000: 17]; [Полякова 1997: 270–273].
263
Этим наблюдением со мной любезно поделился Н. Г. Охотин при обсуждении ранней редакции настоящего исследования.
264
См. [Сурат 2009: 41–43, 221–222].
265
См. [Гаспаров Б. 1994: 126–127].
266
В эссе И. А. Бродского, посвященном «Новогоднему» Цветаевой («Об одном стихотворении», 1980), делается следующее обобщение: «Оплакивая потерю <…> автор зачастую оплакивает – прямым, косвенным, иногда бессознательным образом – самого себя, ибо трагедийная интонация всегда автобиографична. Иными словами, в любом стихотворении “На смерть” есть элемент автопортрета. Элемент этот тем более неизбежен, если оплакиваемым предметом является собрат по перу, с которым автора связывали чересчур прочные – подлинные или воображаемые – узы, чтобы автор был в состоянии избежать искушения отождествить себя с предметом стихотворения» [Бродский 1999: 142]. Об этом пассаже см. [Левинтон 1998а: 199].
267
Явным влиянием этого текста отмечено стихотворение Кузина «Вдохновеньем творца и натугой поденщика бычьей…» (1942): «Человек умирает, обычай сменяет обычай. / Города остаются и здания вечно живут. // Человек умирает… На этой земле он родится / И на ней он живет, о земле не мечтая иной». Мандельштамовская образность (тяжелые пчелы и т. п.) проникла и в написанные Кузиным в том же году и тоже Ан5 «Энграммы».
268
Впервые на это указала Анна Ахматова, когда ей стали известны уцелевшие фрагменты «Скрябина и христианства» [Ахматова 1990: II, 162]. В подтекстуальный пласт приведенных строк входит выражение В. Ф. Одоевского «Солнце нашей поэзии закатилось» из газетного некролога Пушкину [Поливанов 1990: 513–514].
269
Ср. [Левин 1998: 116–117].
270
Ср. замечание М. Л. Гаспарова по поводу других размеров: «Нет ничего легче, как объяснить семантическую традицию 3-ст. хорея подавляющим влиянием гения Лермонтова и Фета на последующих эпигонов. Но в 3-ст. ямбе мы видим, как Пастернак заимствует не только интонацию у Тихонова, а и ритмико-лексическое клише у Саянова, и как Цветаева воспроизводит звучание стиха не только Бальмонта, но и Якубовича-Мельшина» [Гаспаров М. 1999: 118]. Ср. также использование Фетом надсоновских мотивов в стихотворении 1887 г.: [Ronen 1983: 258].
271
См. [Лекманов 2000: 473–479].
272
Например, у Фета в «Истрепалися сосен мохнатые ветви от бури…» тематизируется скоротечность времени и возникает образ «овдовевшей лазури». Ср. также: «И глубокая мгла, словно саван, поля одевает» (С. Надсон, «Если в лунную ночь…», 1884); «Вспоминаем ли саван при виде их белых рубах? <…> На могилах неведомых ветлы верхушками машут» (И. Бунин, «Дивьи жены», <1906>); «Ной один. Но ни звезды, ни даль не пленяют очей – / Мертвый ливень, и тучи, и ветер желаннее были… / Надломилось молчанье, и горькое пламя речей, / Разгораясь, теряется в небе, как в тихой могиле» (Саша Черный, «Ной», 1914); «Покормить надо с ложки безрукого парня-сапера, / Казака надо ширмой заставить – к рассвету умрет» (он же, «Сестра», <1923>); «Словно саван, белеет газета под темным стволом» (он же, «Над всем», <1923>); «Я не раз умирал от болезней, от пыток, от жажды…» (Н. Минаев, 1922, в его сб. «Прохлада», 1926), «Голубая мечеть, чьи останки, как смерть величавы, / Погребенный святой и времен погребальный обряд» (К. Липскеров, «Азия», <1915>); «Легкий месяц блеснет над крестами забытых могил…» (Г. Иванов, 1921); «Десять лет – грустных лет! – как заброшен в приморскую глушь я. / Труп за трупом духовно родных. Да и сам полутруп» (И. Северянин, «Десять лет», 1927). Примеры можно множить.
273
О срастании Ан5 с медитативно-элегической тематикой писали ранее Н. И. Харджиев и В. В. Тренин [1970: 264].
274
Особого изучения заслуживает вопрос о семантическом обмене между Ан5 и смежным с ним размером – 5-стопным амфибрахием. Такой обмен зафиксирован у Гумилева и раннего Мандельштама: [Фролов 1996: 51]. Ср. также два текста, анапестический и амфибрахический, написанные в 1941 г. Н. Н. Минаевым: «Ты из жизни ушла, одиноким оставив меня, / И сама в одиночестве в тесном гробу приютилась, / Ты покинула мир на закате июльского дня, / Вместе с солнцем, но солнце, тебя проводив, возвратилось. // А тебя больше нет и не будет уже никогда… <…> И потянется жизнь как бесцветная грубая нить, / Только память о прошлом мне будет отрадой единой; / В целом мире никто не сумеет тебя заменить / И стихи о тебе станут песней моей лебединой. <…> только отблеск твоей неизбывной любви / Мне мерцает звездой из забитого наглухо гроба»; «…Томясь по тебе, я не вижу тебя наяву, / А ты с прежней лаской быть может глядишь на меня, / И может быть чувствуешь, как и зачем я живу, / С того, в вечный траур мне сердце одевшего дня. // Во имя немеркнущей даже за гробом любви, / Из плена земного, из тесных оков бытия / Меня поскорее к себе навсегда призови <…>» («Так, видимо, нужно, так, видно, угодно судьбе…», 1941) [Минаев 2014: 393–395]. Интересно амфибрахическое стихотворение Терапиано «Успение» (кн. «Паруса», 1965), оплакивающее Мандельштама, снабженное эпиграфом из анапестического «Золотистого меда струя из бутылки текла…» и на него же ориентированное всем своим образным строем. Обратный пример – написанное Ан5 (с вкраплениями 3– и 6-стопного) траурное стихотворение Ирины Бем «Андромаха» <1943> (см. [МЖТ 1994–1997: IV, 162–163]), отмеченное явным влиянием амфибрахического «За то, что я руки твои не сумел удержать…». В мандельштамовском переводе (1921) стихотворения Н. Мицишвили «Прощание» («Когда я свалюсь умирать под забором в какой-нибудь яме…») однажды возникает Ан5: «Недопитые мысли сгорают в смятеньи заката». Ср. замечание Л. Я. Гинзбург: «Для Мандельштама совсем не характерны два основных размера классицизма: древнего – гекзаметр и нового – александрийский стих. Когда ему нужны размеры долгого дыхания, он прибегает к пятистопному анапесту или амфибрахию. <…>» [Гинзбург 1997: 343].
275
Слово «Бауман» создает здесь эффектный ритмический сбой (сверхсхемное ударение, падающее на дифтонг). Надо сказать, что разнообразные метрические нарушения Ан5 либо его комбинации с другими размерами встречаются настолько часто, что едва ли не конкурируют с нормой. В подобном экспериментаторстве, наблюдаемом еще до прочного вхождения размера в стихотворческий обиход – у Мея, Григорьева, Надсона, возможно, сказывается память Ан5 о гекзаметре, в лоне которого он зародился.
276
Ср. «Памяти Демона» <1922>, чередующее 2-стопный анапест с мужской рифмой и 3-стопный с женской, что эквивалентно 5-стопным двустишиям с цезурой и внутренней рифмой на 2-й стопе.
277
Возможно, сюда примыкают и опыты поэтов т. наз. внутренней эмиграции вплоть до 1960-х гг. К таким поэтам относится, например, уже цитировавшийся Н. Минаев; вот отрывки еще из одного стихотворения этого автора: «Рдеет куст бузины, золотится на солнце пчела, / Под небесною синью твоя зеленеет могила <…> Пусть могила твоя не одета в порфир и гранит, / Пусть она не в цветах и не в лентах с венками из жести <…> Мне приходит пора за тобою отправиться вслед, / Ибо к отдыху тело, а сердце к покою стремится <…>» (1951) [Минаев 2014: 445]. Ср. также стихотворение приятельницы Минаева Наталии Кугушевой «Крематорий» на смерть мужа (1937): «“Анданте кантабиле”. Тяжесть раскрывшихся роз, / Последний певучий земной провожающий голос. / И если подруге твоей принести удалось / Тебе, уходящему, славу и молодость – чистейшему пламени тело твое отдаю, / Твою выпускаю на волю бессмертную душу. / “Анданте кантабиле”. Звезды над миром встают, / И музыки голос всё глуше, и глуше, и глуше…» [Кугушева 2011: 149]. (Символично, что вторым браком поэтесса была замужем за инженером, «неутомимым энтузиастом кремации», по определению А. Л. Соболева [Там же: 252].)
278
Эти наивные стихи были написаны под впечатлением от мемуаров Н. Я. Мандельштам.
279
Характерная семантика возникает у Андреева и в других случаях обращения к Ан5: «Перед взором Стожар – / бестелесным, безгневным, безбурным – / Даже смертный конец / не осудишь и не укоришь…» («Русские боги», I, 7); «Никогда, никогда / на земле нас судьба не сводила: / Я играл в города / и смеялся на школьном дворе, / А над ним уж цвела, / белый крест воздевая, могила, / Как два белых крыла / лебедей на осенней заре» («Русские боги», X, 1 = «Александру Блоку»). В одном случае тема тюрьмы раскрывается в 5-стопных анапестах, не накладываясь на инфернальную фантастику: «В недрах русской тюрьмы / я тружусь над таинственным метром» («Русские боги», XVI = «<Сквозь тюремные стены>»).
280
Ср. оба зачина: «Это было при нас…» – «Это было давно…». Надо, впрочем, допустить и фразеологический диктат размера, – ср. зачин стихотворения С. Сафонова: «Это было давно… Я не помню, когда это было…» (1895) [П 1972а: 522]. Ср. еще последнюю строку первого и последнего катренов в цитированном выше стихотворении Н. Минаева: «Это было давно, но я помню, когда это было» («Рдеет куст бузины, золотится на солнце пчела…»).
281
Ср. в вариантах: «Так из опыта лепят слова, но не легче дышать» [Аронзон 2006: 519].
282
Отдельно от фетовско-мандельштамовской линии, но поблизости от нее на карте исторических маршрутов Ан5 располагается стихотворение Ахматовой «Этой ивы листы в девятнадцатом веке увяли…» (1957). По утверждению О. Ронена, Ахматова через конкретный подтекст из Фета («Поэтам», 1890) апеллирует к сквозному для ряда его текстов (в том числе и «Я болен, Офелия, милый мой друг!..») образу ивы как «аллегории мировой скорби в буквальном смысле слова, не Weltschmerz [Гейне. – Е.С.], а скорби, разлитой по всей вселенной» [Ронен 2000а: 64] (к той же линии в русской поэтической традиции относятся, конечно, и «Ноша жизни светла и легка мне…» (1906) Анненского, и «Она не однажды всплывала…» <1915> Гумилева). И О. Ронен, и Р. Д. Тименчик, первым указавший на подтекст из Фета [Тименчик 1981а: 303–304], полагаются в этом вопросе прежде всего на свою интуицию (разумеется, превосходную), поскольку ива у Фета не упоминается. Между тем существует независимое подтверждение этой догадки: в 1964 г. Л. Аронзон в стихотворении «Послание в лечебницу» (первоначальное название – «Послание в психиатрическую лечебницу»), написанном в основном длинными разностопными анапестами, соединил (не с подсказки ли самой Ахматовой?) аллюзию на смерть Офелии («…и доживи до лета, чтобы сплетать венки, которые унесет ручей») с ахматовской парафразой: «…будто там, вдалеке, из осеннего неба построен высокий и светлый собор» (оба эти обстоятельства тщательно, хотя и с несколько преувеличенной осторожностью, раскрыты комментаторами Аронзона: [Аронзон 2006: 418]). Стихотворение вошло в сборник Аронзона «Избранное», изданный в Иерусалиме в 1985 г. Можно сказать, что Ахматова «познакомила» фетовский концепт ивы-плакальщицы с тем стихотворным размером, который с легкой руки Фета стал одним из востребованных механизмов оплакивания.
283
Ниже анализируется только тюремная или близкая к ней метафорика, тогда как поддерживающие ее фундаментальные антитезы (‘свобода – плен’, ‘открытость – замкнутость’, ‘бесконечность – предел’) по возможности не затрагиваются.
284
Известный, впрочем, русскому космологическому сознанию со времен романтизма [Вайскопф 2002а: 234].
285
Менее употребительный, но более точный термин – «антикосмизм».
286
Ср. слова одного из небесных духов в самом начале драматической поэмы А. К. Толстого «Дон Жуан» <1861>: «Жаль мне рода, что для хлеба / Маять век свой осужден; / Мысль его стремится в небо, / Сам над плугом он согбен; / Всем страданьям, без изъятья, / Должен дань он заплатить, / И не лучше ль было б, братья, / Вовсе смертному не жить?»
287
См. [Groningen 1966: 170].
288
Сентенция зафиксирована и в средневековых памятниках, таких как «Суда» (s.v. «ἀρχήν μὲν μὴ φῦναι») и сборники пословиц Макария Кризокефала и Михаила Апостолия (соотв. 2. 45 и 3. 85 в изд. [CPG 1839–1851: II, 148, 307]).
289
Ср., например, рассуждения об отказе трагических героев от воли к жизни в § 51 тома первого.
290
См. [Зайцев А. 2000: 92–98].
291
Соответствующая цитата из нее («Pues el delito mayor / Del hombre es haber nacido») дважды появляется в «Мире как воле и представлении». Ср. также рассуждение Шопенгауэра, вынесенное Фетом в эпиграф к «Измучен жизнью, коварством надежды…» (1864?).
292
«…Пришло мне в мысли хоть на миг <…> Узнать, для воли иль тюрьмы / На этот свет родимся мы!» («Боярин Орша», 1835–36). С небольшими изменениями фрагмент перекочевал в «Мцыри» (надо отметить, что тюремная метафорика, сквозная для трех лермонтовских поэм, образующих генетическую последовательность: «Исповедь», «Боярин Орша», «Мцыри», – очевидным образом внушена их жанровым и стиховым прототипом – «Шильонским узником»). Ср. также в исключенном из белового текста фрагменте «Мцыри», где трактовка рождения как персонального проклятия опосредована конвергентностью тюрьмы – родине: «…почему / Ты на земле мне одному / Дал вместо родины тюрьму?», «…И детский голос мой дрожал, / Когда я пел хвалу тому, / Кто на земле мне одному / Дал вместо родины – тюрьму…» (ср. сходный мотив в цитированном выше тексте Блока).
293
«Мой мир – тюрьма. В нем, к смерти осужден, <…> За что не знаю, мучусь бесконечно» («Свет правды»); «…Весь мир – тюрьма одна, / Где в келье одиночной / Душа заключена» («Песня»).
294
См. [Йонас 1998: 247–250]. Вслед за О. Ханзен-Лёве [1999: 350] процитирую «Стеклышко в двери» Минского: «Чей-то глаз следит за мной, / Равнодушный или злой <…> Не гляди в мою тюрьму! / Дай побыть мне одному! <…> Нет! Всезрящий глаз открыт, / Смотрит, судит и следит». Ср. у Кольриджа в переводе Гумилева (1919): «Сквозь снасти Солнце видно нам <…> Как за решеткою тюрьмы / Горящий, круглый глаз» («Поэма о старом моряке»). См. также [Вайскопф 2003: 354].
295
См. [Йонас 1998: 206]. Об этом мотиве применительно к Гоголю и его современникам см. [Вайскопф 2002а: 398–400].
296
Русская литературная и публицистическая традиция получила соответствующий импульс от маркиза де Кюстина, назвавшего Россию «тюрьмой народов». С этой формулировкой Мандельштам скрестил пушкинское «В Европу прорубить окно» в переводе 1924 г. из Бартеля: «Петербург! В тюрьме оконце! / Крест железных перекладин!» («Петербург»). Ср. в оригинале: «Petrograd: vor meiner Zelle kreuzt sich schwer ein Eisengitter» [Barthel 1920: 148]. Букв. пер.: «Петроград: перед моей тюремной камерой тяжело скрещена железная решетка». По замечанию Мандельштама, «[р]ешетка – излюбленный Бартелем символ: см. его “Страну за решеткой”» (III, 132).
297
Ср. у Случевского: «…Кругом совсем темно; / И этой темнотой как будто сняты стены: / Тюрьма и мир сливаются в одно» («На мотив Микеланджело», <1880>). В преддверии разговора о гносеологической голубой тюрьме значима уподобляемость романтического порабощения субъекта маниакальной страстью или идеей – тюремному заточению. Так, в XXXVI главе «Моби Дика» Ахав сравнивает белого кита со стеной своего узилища, которую нужно пробить, чтоб вырваться на свободу (но также и с бессмысленной маской, сквозь которую проглядывают черты рационального зла).
298
См. [Махов 2002: 76–77].
299
Ср. в «Шильонском узнике»: «То было тьма без темноты; / То было бездна пустоты / Без протяженья и границ» (и далее). У Случевского: «…И мнится при луне, что мир наш – мир загробный, / Что где-то, до того, когда-то жили мы, / Что мы – не мы, послед других существ, подобный / Жильцам безвыходной, таинственной тюрьмы. // И мы снуем по ней какими-то тенями, / Чужды грядущему и прошлое забыв <…>» («Lux aeterna», <1881>); у Надсона: «…И только с белеющей башни собора / Доносится бой отдаленных часов. / Внимая им, узник на миг вспоминает, / Что есть еще время, есть ночи и дни» («Ни звука в угрюмой тиши каземата…», 1882); у Брюсова: «День и ночь – не все равно ли, / Если жизнь идет в неволе!» («Песня из темницы», 1913); у Мандельштама в перводе из Бартеля: «Бежит, как песок, измельченное время <…>» («Тюремные братья, в весенние дни…», 1925).
300
Которая сама по себе, без жесткой привязки к влиянию звезд, конечно, много старше гностицизма. Достаточно вспомнить, что Овидий (Met., 1. 113–118) приурочивает членение года на сезоны к заточению самого времени – Сатурна: «После того как Сатурн был в мрачный Тартар низвергнут, / Миром Юпитер владел, – серебряный век народился. / Золота хуже он был, но желтой меди ценнее. / Сроки древней весны сократил в то время Юпитер, / Лето с зимою создав, сотворив и неверную осень / С краткой весной; разделил он четыре времени года» (пер. С. Шервинского). А за полтысячи лет до Овидия Эсхил вложил в уста Прометея такие слова о людях, освобожденных им из плена невежества: «Ни примет зимы остуженной / Не знали, ни весны, цветами пахнущей, / Ни лета плодоносного» («Прикованный Прометей», 454–456, пер. А. И. Пиотровского). Мысль о сковывающем членении времени на сезоны мы встретим и у Вяч. Иванова в стихах периода его работы над переводами других трагедий Эсхила: «Всё, что предельно, – / Сердцу тюрьма, – / Лето ли зелено, / Бела ли зима» («При дверях», 1912).
301
Подробно о диаволической замкнутости мира см. [Ханзен-Лёве 1999: 89].
302
«Рвануться бы, стряхнуть докучный гнет цепей, / Взмахнуть бы широко орлиными крылами! / Но цепи – где они? Вдоль стен тюрьмы моей / Не ходит часовой с бессонными глазами» (П. Якубович, «В плену», 1900); «…Вот с угрозой в дверях злобно щелкнул “глазок” – / И вскочил я, как раненый зверь… <…> То был сон!.. / Но от боли я вновь застонал: / На яву тот же ужас гнетет! / Без решеток тюрьма и без каменных стен, / А безмолвие то же вокруг…» (он же, «Тук-тук!..», 1903); «…Весь мир стал снова изначальным, / Весь мир – замкнутый дом, и на замке печать. // Вновь Хаос к нам пришел и воцарился в мире <…>» (К. Бальмонт, «Злая ночь», 1903).
303
Ср. картину сменяющих одна другую космической и хаотической фаз в режиме мировой тюрьмы из одноименного стихотворения Бальмонта <1905>.
304
«Этот город боролся с моей чистотою. / С моей верой боролись и лучшие их, / И потом же они посмеялись над мною, / Заключили меня в тесных тюрьмах своих» (А. Добролюбов, «Я вернусь к вам, поля и дороги родные…»); «…Камни везде, и дома. <…> Город мне – точно тюрьма» (Ф. Сологуб, «Узкие мглистые дали…», 1898); «Мы бродим в неконченом здании / По шатким, дрожащим лесам <…> Нам страшны размеры громадные / Безвестной растущей тюрьмы. <…> О думы упорные, вспомните! / Вы только забыли чертеж! // Свершится, что вами замыслено. / Громада до неба взойдет / И в глуби, разумно расчисленной, / Замкнет человеческий род» (В. Брюсов, «В неконченом здании», 1900). Ср. также брюсовского «Каменщика» (1901): каменщик строит тюрьму, в которой, возможно, предстоит томиться его сыну; тюрьма недостроена и сын не осужден, но симметрия этих двух признаков неполноты взаимно их нейтрализует, и это обеспечивает впечатление безысходной предопределенности.
305
В черновиках «Армении», например, обыденная реальность эмоционально окрашивается тюремным колоритом: «Дома из тюремного хлеба / Из мякиша строит тоска». Или, согласно другому прочтению: «Дома из тюремного хлеба / Из мякиша страшной тоски» [Левинтон 1977: 136].
306
См. «Среди звезд» (1876). В статье о Фете (1903) Брюсов прямо увязывает этот мотив с голубой тюрьмой: «В мире явлений, в “голубой тюрьме”, все совершается по определенным правилам. Даже звезды движутся по установленным путям – “рабы, как я, мне прирожденных числ”» [Брюсов 1973–1975: VI, 213].
307
См. «Угасшим звездам» (1890). Ср. также: «А ты, застывший труп земли, лети, / Неся мой труп по вечному пути!» («Никогда», 1879). Одним из предшественников Фета в разработке этой темы был Байрон: «Каин. <…> Но мрак был пуст, и я свой взор усталый / От стен родного рая отвращал / К светилам горним, к синему эфиру, / К его огням, столь нежным и прекрасным. / Ужели и они умрут? Люцифер. Быть может; / Но надолго всех вас переживут» («Каин», 1821, пер. И. Бунина). См. еще [Анненский 1979: 37].
308
См. «Измучен жизнью…» и «Угасшим звездам». О развитии данной фетовской темы у Мандельштама см. [Ронен 2002: 103]. О. Ронен также указывает на мотив затрудненного дыхания в «Среди звезд» и «Измучен жизнью…», что делает оба текста релевантными для понимания фетовского одышливого карандаша в «Дайте Тютчеву стрекозу…» [Там же: 37].
309
См. [Йонас 1998: 60, 171]; ср. также [Ханзен-Лёве 1999: 87–88]. Такая двойственность понятия духа, который в одних случаях отождествляется с душой, а в других ей противопоставляется, зафиксирована и в словаре Даля. См. также языковедческое исследование М. О. Гершензона «Дух и душа: Биография двух слов» (1918).
310
Ср. [Вайскопф 2002а: 339].
311
Ср. в «Кратиле»: «Многие считают, что тело подобно могильной плите, скрывающей погребенную под ней в этой жизни душу» [Платон 1990–1994: I, 634] и особенно в «Федоне»: «Тем, кто стремится к познанию, хорошо известно вот что: когда философия принимает под опеку их душу, душа <…> вынуждена рассматривать и постигать сущее не сама по себе, но через тело, словно бы через решетки тюрьмы, и погрязает в глубочайшем невежестве. Видит философия и всю грозную силу этой тюрьмы: подчиняясь страстям, узник сам крепче любого блюстителя караулит собственную темницу» [Там же: II, 39]. В русской поэзии эта древняя метафора, воспринятая отчасти в неоплатоническом ракурсе [Вайскопф 2002а: 234], оставалась ходовой до конца романтической эпохи в идейном диапазоне от пиетизма Жуковского до демонизма Лермонтова. Ср. соответственно: «Высокая душа так много вдруг узнала, / Так много тайного небес вдруг поняла, / Что для нее земля темницей душной стала, / И смерть ей выкупом из тяжких уз была» («Плачь о себе: твое мы счастье схоронили…», 1838); «…Знай, этот пламень с юных дней, / Таяся, жил в груди моей; / Но ныне пищи нет ему, / И он прожег свою тюрьму / И возвратится вновь к тому, / Кто всем законной чередой / Дает страданье и покой…» («Мцыри», 1839).
312
«В своей тюрьме, – в себе самом, / Ты, бедный человек, / В любви, и в дружбе, и во всем / Один, один навек!..» (Д. Мережковский, «Одиночество», 1890); «Мы беспощадно одиноки / На дне своей души-тюрьмы!» (В. Брюсов, «Одиночество», 1903); «Мне в мой простор, в мою тюрьму, / Входить на свете одному…» (Ю. Балтрушайтис, «Одиночество», 1904). Этот вывод о невозможности какой-либо коммуникации между узниками, запертыми в одиночных камерах своего бытия, представлял собой символистическую радикализацию романтического скепсиса по поводу любых интенций, исходящих от смертных; ср. в финале романа Х. К. Андерсена «Всего лишь скрипач» (1837): «То, что мы называем великим и бессмертным, когда-нибудь для других поколений будет чем-то вроде надписей углем на стенах тюремной камеры, которые теперь читают любопытные…» [Андерсен 2001: 347].
313
См. [Вайскопф 2002а: 264, 307–308].
314
О преломлении платоновского символа у любомудра Веневитинова см. [Гинзбург 2007: 406]. Ср.: «Проснулись мы, – конец виденью, / Его ничем не удержать, / И тусклой, неподвижной тенью, / Вновь обреченных заключенью, / Жизнь обхватила нас опять» (Ф. Тютчев, «Е. Н. Анненковой», не позднее 1859); «…Кто бредет по житейской дороге / В безрассветной глубокой ночи, / Без понятья о праве, о боге, / Как в подземной тюрьме без свечи» (Н. Некрасов, «Ночь. Успели мы всем насладиться…», 1858); «…когда ни звука песен, / Ни смелых образов, когда вся жизнь – тюрьма, / Где млеет по стенам седеющая плесень / И веет сыростью губительная тьма» (К. Фофанов, «Из старого альбома», 1888); «Все снится – в мрачный склеп / Навек попали мы: / Стучим, зовем – увы! / Недвижен свод тюрьмы. // Нет песен, смеха нет… / Ни солнца, ни цветов…» (П. Якубович, «Сны», 1907). Особой популярностью притча о пещере пользуется у старших символистов – Бальмонта («В пещере», 1895; «В тюрьме», 1899), Коневского («Жертва вечерняя», 1896) и др. (см. [Ханзен-Лёве 1999: 226]). Словно бы в пику символистскому мотиву зверинца как модели мировой тюрьмы (см. [Там же: 100]) Заболоцкий в текстах рубежа 1920–30-х гг. – таких, как «Прогулка», «Змеи», «Осень» («В овчинной мантии…»), поэма «Деревья», – разрабатывает руссоистскую концепцию природы-тюрьмы (что в следственном деле 1939 г. интерпретировалось как антисоветская аллегорика, – см. публикацию А. Л. Соболева в его блоге:
315
Ср.: «…Привыкший к сумраку темницы, / Томится узник… по деннице. / Для глаз его несносен свет; / И, если луч ее порою / Проглянет светлой полосою, – / Не верит он, что были дни, / Когда и для него блистал / Приветный луч златой денницы: / Сердито тяжкие ресницы / Спешит закрыть, как бы не знал / Он никогда дневного света» (П. Бессонов, «Что ж? Отчего так грустна ты?..», 1845; цит. по:
316
Ср. у Лермонтова мотив различного воздействия ночи и дня на истощенный заточением организм: «На мне печать свою тюрьма / Оставила… Таков цветок / Темничный: вырос одинок / И бледен он меж плит сырых, / И долго листьев молодых / Не распускал, все ждал лучей / Живительных. И много дней / Прошло, и добрая рука / Печально тронулась цветка, / И был он в сад перенесен, / В соседство роз. Со всех сторон / Дышала сладость бытия… / Но что ж? Едва взошла заря, / Палящий луч ее обжег / В тюрьме воспитанный цветок…» («Мцыри»).
317
«Но свыкнись, узник! Из тюрьмы на свет / Когда выходят – взору трудно, больно, / А после станет ясно и раздольно!» (Н. Огарев, «Упование. Год 1848», <1857>). Эта диалектика чревата противоположными оценками пробуждения от тюремного сна, которое может трактоваться и как выход из тюрьмы, и как возвращение в нее: «Рассеется при свете сон тюрьмы, / И мир дойдет к предсказанному раю» (В. Брюсов, «Я знаю…», 1898); «Счастлив, кто спит, кто про долю свободную / В тесной тюрьме видит сны. / Горе проснувшимся! <…>» (Н. Минский, «Серенада»).
318
Ср. строки Вяземского о Батюшкове, который культивировал Тассо и чье сумасшествие поэтому закономерно ассоциировалось с тюремным заточением: «Он в мире внутреннем ночных видений / Жил взаперти, как узник средь тюрьмы, / И был он мертв для внешних впечатлений, / И Божий мир ему был царством тьмы» («Прекрасен здесь вид Эльбы величавой…», 1853).
319
Самый яркий пример – пушкинское «Не дай мне Бог сойти с ума…» (1833).
320
В этой связи О. Ханзен-Лёве [1999: 352] цитирует Бальмонта: «Да, но безумье твое было безумье священное, / Мир для тебя превратился в тюрьму, / Ты разлюбил все земное, неверное, пленное, / Взор устремлял ты лишь к высшему Сну своему» («Пред картиной Греко», 1897).
321
Ср. в переводе из Бартеля (1925): «в каменном мешке-гробу»; «в каменном гробу» («Каторжный май»). Инверсия мотива содержится в X песни «Ада»: то место в шестом круге, где души еретиков заключены в темных гробах, Данте называет «слепой тюрьмой»; о косвенном отражении этого эпизода в «Разговоре о Данте» см. в комментарии Л. Г. Степановой и Г. А. Левинтона (II, 547).
322
Ср.: «…в наряде голубом, / Крутясь, бежал Гвадалкивир, <…> Светило южное текло, <…> Но в монастырскую тюрьму / Игривый луч не проникал <…>» (М. Лермонтов, «Исповедь», 1831); «Я никогда не знал, что может / Так пристальным быть взор, / Впиваясь в узкую полоску, / В тот голубой узор, / Что, узники, зовем мы небом / И в чем наш весь простор» (О. Уайльд, «Баллада Рэдингской тюрьмы», пер. К. Бальмонта – 1904); «…Посмотреть на синю волю / Сквозь железное окно» (С. Городецкий, «Тюремные песни», 1907). Ср. в переводе Мандельштама (1925) из Бартеля: «Вот на прогулку поднялся / Весь полосатый сброд, / И голубеют небеса <…>» («Каторжный май»). Ср. также рассказ С. Риттенберга: «Последний раз я встретил Мандельштама в Летнем саду, это было перед самым моим отъездом в Финляндию, в 1918 году. Когда я подошел к нему, он сидел на скамейке, откинув голову назад, и читал: “Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme, un arbre par-dessus le toit berce sa palme”. “Знаете, что Верлен написал это в тюрьме?” – спросил Мандельштам» (цит. по [Тименчик 2005: 475]). Антиномичное тюрьме голубое небо может замещаться звездным: «Сосны шепчут про мрак и тюрьму, / Про мерцание звезд за решеткой» (Н. Клюев, «В златотканные дни Сентября…», 1911). Порой мотив синевы вводится с помощью образов-посредников. Таковы голубые глаза: «…часто ночью мне мечталось, / Что дверь тихонько отворялась, / И робко шла ко мне она – / Голубоокая жена <…>» (Н. Огарев, «Тюрьма», 1858); цветы: «Но фиалка и в тюрьме: с ума сойти в безбрежности!» (О. Мандельштам, «Я молю, как жалости и милости…», 1937; см. подтекстуальный анализ этого образа: [Левинтон 1998: 753]); наконец, однокоренные ключевому слову голуби, чья мифологема фиксирует способность покидать место, которое человек покинуть не может (Ноев ковчег): «<…> Вы деньки мои – братцы милые, други верные, / Каждый день ровно голуби над тюремным окошком моим подымаетесь <…>» (А. Добролюбов, «Вы деньки ли мои – деньки тихие неприметные…»); «Вам, птицы поднебесные, / Насыпал я пшена / За те пруты железные / Тюремного окна. <…> Покойны будьте, голуби! / Обильно сыплю я. <…> Когда же все насытитесь, / Умчитесь в эту синь, / Рассеетесь, рассыпетесь / Средь голубых пустынь» (С. Городецкий, «Тюремные песни»). Ср. финал ахматовского «Реквиема»: «…И голубь тюремный пусть гулит вдали, / И тихо идут по Неве корабли», – где голубь, способный покидать пределы тюрьмы и возвращаться, не замечая пересекаемой границы, выступает субститутом наружного голубого простора, зримо представленного динамичной Невой. Впрочем, стереотип голубя, удел которого завиден узнику, дискредитировался еще П. Якубовичем: «Эмблема кротости, любимый житель неба, / О голубь, бедный раб, тебя ль не презирать? / Для тощего зерна, для жалкой крошки хлеба / Ты не колеблешься свободой рисковать» («Голуби», 1885).
323
В «Кому на Руси жить хорошо» упоминается тюрьма, цвет которой тоже сатирически диссонирует с ее стереотипом: «Обугленного города / Картина перед ним: / Ни дома уцелевшего, / Одна тюрьма спасенная, / Недавно побеленная, / Как белая коровушка / На выгоне, стоит». Эта картина города напоминает фотографию в негативе: тюрьма и белый свет поменялись признаками. В символическом плане белая тюрьма подменяет собой сгоревший город, представая мировой тюрьмой в ее политическом изводе. Ср. у Бальмонта попытку снять противоречие между представлением о небе как тюрьме и нетюремными коннотациями небесной голубизны: «Мне Небо кажется тюрьмой несчетных пленных, / Где свет закатности есть жертвенная кровь» («Мировая тюрьма»). То же, в опосредованном виде, у Мандельштама в «Египетской марке», где суконно-потолочное и, в другом месте, суконно-полицейское небо происходит из «Истории города Глупова»: там фоном для портрета Угрюм-Бурчеева служит «пейзаж, изображающий пустыню, посреди которой стоит острог; сверху, вместо неба, нависла серая солдатская шинель…» [Ronen 1983: 101]. Ср. также алый цвет неба над острогом в стихе: «В час, как полоской заря над острогом встает» («Колют ресницы. В груди прикипела слеза…», 1931). Коллизия покраски ставней тюрьмы в яркие, веселые цвета развернута в одной из идиллий Черниховского: в то время как гои мастерили капкан для крыс, расплодившихся под зданием тюрьмы, еврей-маляр «ставень за ставнем, потея, / Красил, пестрил, размечал. <…> Ловко покрасил он ставни: медянкой разделал, медянкой! / Доски с обеих сторон покрасил, внутри и снаружи. / В центре же каждой доски он сделал по красному кругу: / Сурику, сурику брал! Себе в убыток, ей-богу! / И расходились от центра лучи, расширяясь кнаружи: / Желтый, и синий, и желтый, и синий опять – и так дальше. / В круге ж чудесный цветок малевал он; уж право – такого / Просто нигде не сыскать: три чашечки тут распускались / Из белоснежного стебля, а в чашечке – вроде решетки – / Клеточки красные шли вперемежку с желтыми. Чудо!» («В знойный день», 1905, пер. В. Ходасевича, 1917).
324
Аналогичная метафора (мир – гроб) развернута Полонским: «…И представлялось мне два гроба: / Один был твой – он был уютно-мал, / И я его с тупым, бессмысленным вниманьем / В сырую землю опускал; / Другой был мой – он был просторен, / Лазурью, зеленью вокруг меня пестрел, / И солнца диск, к нему прилаженный, как бляха / Роскошно золоченая, горел. <…> И порывался я очнуться – встрепенуться – / Подняться – вечную мою гробницу изломать – / Как саван сбросить это небо, / На солнце наступить и звезды разметать – / И ринуться по этому кладбищу, / Покрытому обломками светил, / Туда, где ты <…>» («Безумие горя», 1860).
325
В связи с кавказской референцией ГТ вспоминается лермонтовский фрагмент «Синие горы Кавказа…» (1832), который, хотя и не мог оказать влияние на стихи памяти Данилевского, тем не менее заканчивается перечеркнутым в автографе анапестическим периодом (т. е. содержит опыт метризованной прозы на основе трехсложных размеров, канонизированной впоследствии Белым), где есть и созвучные мировой тюрьме цепи судьбы: «В дымной сакле, землей иль сухим тростником покровенной, таятся их жены и чистят оружье, и шьют серебром – в тишине увядая душою – желающей, южной, с цепями судьбы незнакомой». В единственной доступной Фету публикации («Отечественные записки», 1859, № 7, отд. 1, с. 61) текст оформлен как стихи со строками неравной длины и оборван на слове «увядая».
326
Среди поклонников Данилевского это рассуждение было популярно. Ср. в письме К. Н. Леонтьева Т. И. Филиппову (1888): «Не есть ли прекрасное, как говорит Данилевский, духовное начало в материи?» [Леонтьев 2001]. Та же мысль несколько развернута Данилевским в следующем пассаже, записанном на отдельном листке и процитированном в предисловии Страхова к посмертному изданию «России и Европы»: «Красота есть единственная духовная сторона материи, следовательно, красота есть единственная связь двух основных начал мира. То есть красота есть единственная сторона, по которой она (материя) имеет цену и значение для духа – единственное свойство, которому она отвечает, соответствует потребностям духа, и которое в то же время совершенно безразлично для материи как материи. И наоборот, требование красоты есть единственная потребность духа, которую можно удовлетворить только материей» [Страхов 1995: XXXII].
327
Ср. мотив смирения перед бытийственной тюрьмой в несколько более раннем стихотворении Фета: «Окна в решетках и сумрачны лица, / Злоба глядит ненавистно на брата, / Я признаю твои стены, темница, / Юности пир ликовал здесь когда-то» (1882).
328
Ср. уже цитированное «Снова лунная ночь…» Надсона, а также: «Вся жизнь с ее страстями и угаром, / С ее пустой, блестящей мишурой / Мне кажется мучительным кошмаром / И душною, роскошною тюрьмой» (он же, «Минуло время вдохновений…», 1878); «И демоны вас бросили на скалы, / И ввергли вас в высокую тюрьму» (К. Бальмонт, «Осужденные», 1902). Ср. также вероятную вариацию ГТ в программной для раннего символизма поэме Минского «Холодные слова» (1896): «Стеснились глыбы голубые, / И нет нам бегства из тюрьмы».
329
Ранний пример – уже у Надсона: «Пусть нас давят угрюмые стены тюрьмы, – / Мы сумеем их скрыть за цветами» и т. д.; «И да будут позор и несчастье тому, / Кто, осмелившись сесть между нами, / Станет видеть упрямо все ту же тюрьму / За сплетенными сетью цветами» («На мгновенье», 1880). Ср.: «Каждый камень может быть чудесен, / Если жить в медлительной тюрьме» (В. Брюсов, «Каждый миг», 1900); «…И вот опять в стенах сижу. / В очах – нет слез, в груди – нет вздохов. // Мне жить в застенке суждено. / О, да – застенок мой прекрасен» (А. Белый, «В темнице», 1907); «Я и садовник, я же и цветок, / В темнице мира я не одинок» (О. Мандельштам, «Дано мне тело – что мне делать с ним…», 1909; об этих строках см. [Тоддес 1994: 289–290], [Тоддес 2008]). Ср. также строки Анненского, возможно, даже растворившие в себе формулу Фета: «Мечта весны, когда-то голубая, / Твоей тюрьмой горящей я смущен» («Ледяная тюрьма», <1909>).
330
См. [Махов 2002: 38–39].
331
См. [Сапрыкина 2002: 313 сл.]. О позитивных репрезентациях тюрьмы в художественной литературе см. [Duncan 1988: 1204–1234].
332
Но неверно обратное; разговор о Фете предполагает ритуальное упоминание ГТ. Ср. в позднем эссе Бальмонта «Звездный вестник. (Поэзия Фета)» (1925): «Скрежеты зубовные не досягают терема, где от зари и до зари и во всю долгую ночь звенят гусли-самогуды и тонко отзываются на малейшее движенье ветерка, на движение самой тайной мысли и еще не сказанного чувства тайноведческие струны, стерегущие полный женских очарований сад Жар-птицы. Золотые ресницы звезд смотрят в этот терем и в этот сад. И завороживший верных, завороженный мировым таинством, звездный вестник беззакатного дня шепчет, а шепот его слышится через всю голубую тюрьму мира, через все затоны времен <…>» [Бальмонт 1989].
333
Весы, 7. 1904. С. 117. – Цит. по [Богомолов 1999: 234]. Ср. диалектику тюремной решетки, которой в стихах Брюсова разделены томимые взаимной страстью: «…Но опять у роковой преграды / Мы, едва затеплятся лучи. / И, быть может, нет для нас отрады / Слаще пытки вашей, палачи!» («Решетка», 1902).
334
Эквивалентом темно-лазурной тюрьмы Л. Силард считает и аквариум голубой из стихотворения «Берлинское» (1922) [Силард 2002: 99].
335
См. [Богомолов, Волчек 1989: 388]. Ср. стихотворение Вяч. Иванова из «Римского дневника 1944 года» (где питье и корм Пегаса, возможно, отсылают к пище и питью заживо погребенного лирика из приведенного выше блоковского отрывка): «Тебе, заоблачный Пегас, / Ключи питье и злаки корм, / Пока стоянки длится час / На берегу раздельных форм. // Что поверяют боги снам, / Звучит на языке богов: / Не уловить земным струнам / Мелодии священных снов. // И в них поющая любовь / Останется земле нема, / Пока шатер мой – плоть и кровь, / А твой – лазурная тюрьма».
336
В рамках общей парадигмы, заданной державинской «Ласточкой», откуда, например, в «Измучен жизнью…» явилась бездна эфира [Иванов В. В. 2000: 19].
337
Ср. [Богомолов, Волчек 1989: 390].
338
Надо отметить, что Прометей, прикованный к скале, – обычная параллель к заточению Наполеона на о. Святой Елены (см., например, в «Путевых картинах» Гейне [1956–1959: IV, 14]). Именно в связи со ссылкой и смертью Наполеона в русской лирике возникает мотив такой тюрьмы, стены которой – бескрайний голубой простор: «Есть далекая скала; / Вкруг скалы – морская мгла; / С морем степь слилась другая, / Бездна неба голубая; / К той скале путь загражден… / Там зарыт Наполеон» (В. Жуковский, «Бородинская годовщина», 1839); ср. «Могилу Наполеона» Тютчева <1829>.
339
Характерно, что еще в «Путешествии в Армению», описывая внешность Ашота Ованесьяна (чьи кавказские черты имеют в московской обстановке характеристическое значение), Мандельштам упоминает о его прометеевой голове.
340
Давно отмечено [Полякова 1997: 271–272], что значимую параллель к этому образу составляет следующий фрагмент из «Котика Летаева» (варьирующий, в свой черед, образы из глав «Петербурга» «Дурной знак» и «Лобные кости»): «…перед вами – внутренность лобной кости: вдруг она разбивается; и в пробитую брешь <…> несутся: стены света, потоки <…>» [Белый 1997: 35]. Но если у Белого речь идет о проникновении света внутрь черепа, то Мандельштам, сообразно траурному поводу, придал метафизическому процессу обратное направление: из еще горячего черепа (ср. в «Умирающем художнике» (1828) А. Одоевского: «…И грубый камень, <…> На череп мой остывший ляжет») неумолимо изливается жизненная субстанция – лазурь, чей обычный эпитет у Мандельштама – горячая. Эта лазурь из черновых вариантов – не только возможная реминисценция давних стихов Белого, отмеченная Н. И. Харджиевым [1973: 298], и, вопреки суждению С. В. Поляковой [1997: 271], – не абстрактный образ, а портретная характеристика, ведь голубые глаза основной редакции – часть этой лазури, видимая через глазницы. В то же время лазурь, льющаяся из черепа, может обозначать перетруженный мозг; ср. определение мозга поэтов в стихах, написанных менее чем за год перед этим: «Что, если Ариост и Тассо, обворожающие нас, / Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз?» («Не искушай чужих наречий…», 1933). Соответственно, определение черепа «горячий» выражает состояние повышенного накала, как раз и приведшее к смерти-перегоранию. Ср. описание Ленина в заметке «Прибой у гроба» (1924): «Там, в электрическом пожаре, окруженный елками, омываемый вечно-свежими волнами толпы, лежит он, перегоревший, чей лоб был воспален еще три дня назад…» (III, 71) (ср. [Городецкий 2008: 206]). Ср. также замечание Мандельштама насчет диспропорциональности содержания и формы «Записок чудака» (в рецензии 1923 г.): «…человек, переходя улицу, расшибся о фонарь и написал целую книгу о том, как у него искры посыпались из глаз» (III, 101). Впечатление физически ощутимой наэлектризованности станет общим местом воспоминаний о Белом: «…оставляя в глазах сияние, в ушах и в волосах – веяние, – куда-то трещащими от машинок коридорами, на бегу уже обвешиваемый слушателями, слушательницами. В такие минуты он напоминал советский перегруженный, не всегда безопасный трамвай» [Цветаева 1994–1995: IV, 235–236]; «Говорил мало, но глаза, ставшие из синих бледно-голубыми, то бегали, то останавливались в каком-то ужасе. Облысевшее темя с пучками полуседых волос казалось мне медным шаром, который заряжен миллионами вольт электричества» [Ходасевич 1996–1997: IV, 55]; «Казалось, он весь пронизан светом. Таких светящихся людей я больше не встречала. Было ли это впечатление от его глаз или от непрерывно бьющейся мысли, сказать нельзя, но он заряжал каждого, кто к нему приближался, каким-то интеллектуальным электричеством. Его присутствие, его взгляд, его голос оплодотворяли мышление, ускоряли пульсацию. У меня осталось впечатление бестелесности, электрического заряда, материализованной грозы, чуда» [Мандельштам Н. 1970: 162–163].
341
Ср. такие скальдические кеннинги неба, как «череп великана» и «шлем или дом воздуха, земли и солнца» [МЭ 1970: 121]. Кстати, одно из обозначений черепа в «Стихах о неизвестном солдате» – тара обаянья – весьма напоминает скальдический кеннинг.
342
Где соответствующая фраза укладывается в Ан5: «я сниму с себя череп; он будет мне – куполом храма» [Белый 1997: 32]. На фоне отсутствия в творчестве Белого стихотворений, написанных Ан5, особый интерес приобретает так называемый «анапестит» как одна из характеристик метризованной прозы «Петербурга», реминисценциями которого изобилует мандельштамовский цикл. Правда, исследователь данной проблемы Ю. Б. Орлицкий приходит к выводу, что в «городских» фрагментах романа «достаточно употребимыми оказываются все три типа условно выделяемых трехсложников: дактиль, амфибрахий и анапест, так что гипотеза об “анапестите” прозы Белого не подтверждается» [Орлицкий 1999: 206]. Но и не будучи количественно преобладающими, анапестические фразы «Петербурга» порой достаточно длинны, чтобы их можно было представить как написанные 5-стопным размером. Позволю себе поделить на соответствующие отрезки отдельный абзац (из главы «Бегство»), приводимый в статье Орлицкого: «Ты, Россия, как конь! В темноту, в пустоту занеслись / два передних копыта; и крепко внедрились в гранит– / ную почву – два задних». Аналогичным образом и в лирике Белого спорадически появляются фрагменты, условно относимые к этому размеру (но обычно распадающиеся на подстрочия – например, на 2-стопное с мужским окончанием и 3-стопное с женским) – в основном в стихах «Золота в лазури» (1904), но иногда и в позднейших текстах, как, например, «О полярном покое» (1922), где имеется графически трансформированное двустишие с женской внутренней (нефиксированной) и мужской концевой рифмой: «…Быстро выпала / Ворохом / Белого пепла / Зима… // И – / – Окрепла / Хрустальною пряжей / Полярная тьма».
343
Где череп составляет образную пару Гетеануму [Кацис 2000: 309]: «Голова моя пухнет – как купол Иоаннова Здания!..» [Белый 1997: 330]; «Меж Ньюкастлем и Бергеном я перестал уже числиться “человеком”; в былом его смысле уж был я бестельным абстрактным челом, покрывающим мир (или – куполом неба: иллюзией купола)» [Там же]; «Соединение с космосом совершилось во мне; мысли мира сгустились до плеч: лишь до плеч “Я” – свой собственный: с плеч поднимается купол небесный. | Я, собственный череп сняв с плеч, поднимаю, как скипетр, рукою моею» [Там же: 431].
344
«У церковки сердца занимается клирос! // Обгорелые фигурки слов и чисел / из черепа, / как дети из горящего здания»; «Сегодня / надо / кастетом / кроиться миру в черепе!».
345
«…Выпить здравье кружащейся башни – / Рукопашной лазури шальной» («Заблудился я в небе…», 2-й вар.); «Мир, который как череп глубок» («Чтоб, приятель и ветра и капель…») – с подтекстом из Хлебникова [Ронен 2002: 107–108]. Ср. о черепе в «Стихах о неизвестном солдате»: «куполом яснится».
346
«Как тюрьму, череп судьбы раскрою ли?» (В. Шершеневич, «Слезы кулак зажать», 1919). Ср. соседство двух этих семантических единиц в переводе Анненского из Бодлера: «Тюремщик – дождь гигантского размера / Задумал нас решеткой окружить, / И пауков народ немой и серый / Под черепа к нам перебрался жить…» («Сплин», <1904>), а также в «Пляске мертвеца» А. Добролюбова: «Череп, седалище внутреннего царя! / Неужели не разобьет тебя, несчастный, о стены темницы?». Ср. цветаевское: «В себе – как в тюрьме <…> В висках – как в тисках // Маски железной» («Жив, а не умер…», 1925).
347
Ср. включенные в подтекстуальный пласт «Стихов о неизвестном солдате» череп Йорика [Ронен 2002: 108] и другие черепа [Гаспаров М. 2001: 808], к перечню которых можно добавить и череп из одноименного стихотворения Майкова (1840).
348
Ср. аналогичную парадоксальность финала стихотворения «Севастопольское братское кладбище», написанного в следующем, 1887 г.: «Их слава так чиста, их жребий так возвышен, / Что им завидовать грешно…».
349
См. об этом пассаже: [Эллис 1998: 138–139]; см. также о более раннем его варианте: [Ханзен-Лёве 1999: 29].
350
Создается впечатление, что эти провербиальные строки из поэмы А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин» <1859> Брюсов присваивает Фету. Ср. ошибочную атрибуцию того же места поэмы в рассказе Лескова «Фигура» <1889>: «Чувствую, что-то не то, чтo2 нужно: мне бы нужно куда-то легким пером вверх, а я иду свайкой вниз туда, где по словам Гёте “первообразы кипят, – клокочут зиздящие
351
Различным было восприятие символистами космоса – от гностической астрофобии ранних символистов, связывавших космический порядок с учреждением темпоральной тюрьмы (ср. аналогичную трактовку звезд Мандельштамом в стихотворении 1930 г. «На полицейской бумаге верже…»; об астрофобии раннего Мандельштама см. [Гинзбург 1997: 335–336]), через сочувственное отношение к звездам как узникам, чей удел подобен человеческому (восходящее к Фету, а в конечном счете – к «Тимею» Платона), и вплоть до чисто платонического культа звезд как гарантов мировой гармонии у самого Иванова.
352
См., например, статью «Символика эстетических Начал» (= «О нисхождении», 1905), где Иванов говорит о том, что «возвышенно[е] <…> взывает к погребенному я в нас: “Лазаре, гряди вон!” – и к ограниченному я в нас заветом Августина: “Прейди самого себя” (“transcende te ipsum”). <…>» [Иванов 1971–1987: I, 823]. См. еще: [Там же: III, 439, 757, 771, 818; IV, 502, 690].
353
См., например, беседу Вяч. Иванова с М. С. Альтманом 11 января 1921 г.: [Шишкин 1995: 102].
354
См. [Дешарт 1971: 62].
355
О генезисе и типологии этой схемы см.: [Силард 2002: 112; 124], [Тиме 2003: 98 сл.], [Иезуитова 2006] и др.
356
Cр. [Ханзен-Лёве 2005: 310].
357
О гоголевских коннотациях этого пассажа и их провокативном посыле см. [Ханзен-Лёве 1998: 249].
358
«Tristia» (1918). Ср. выкладки О. Ханзена-Лёве о «танатопоэтике» Мандельштама: «Утрата жизненной осязаемости и конкретности компенсируется памятью, которой невозможно лишиться <…>. <…> мандельштамовская смерть окрыляет и обогащает душу, освобождает ее из тюрьмы времени и пространства <…>. | В мире смерти все качества и ценности перевернуты: “мгновение” Фауста (“Кассандре” <…>) не находится в центре жизни (“media in vita”), не является кульминационным пунктом исполнения желаний, это мгновение постоянно присутствует как “memento mori”, т. е. как постоянное присутствие памяти (царства смерти) при жизни. Все акты расставания и траты, таким образом, понимаются положительно, как приближение к цели жизни, т. е. к смерти <…>» [Ханзен-Лёве 2005: 315]. Об «эстетик[е] исчезновения» как «парадоксально[м] следстви[и] танатопоэтики» см. [Там же: 319]. Ср. также мандельштамовскую концепцию истории литературы как истории утрат («О природе слова», 1922), о которой мне уже приходилось упоминать (см. заключительный раздел введения).
359
«Воздух пасмурный влажен и гулок…» (ред. 1935). Ср. [Тоддес 2010: 89].
360
Ср.: «В том, что воспринимает какой-нибудь орган, скрыта также и сила, которая образует самый этот орган. Глаз воспринимает свет. Но без света не было бы и глаза. Существа, проводящие свою жизнь в темноте, не вырабатывают в себе органа зрения. Таким образом, весь телесный человек сотворен скрытыми силами того, что воспринимается посредством органов тел» [Штейнер 1992: 76]. Это место частично цитирует К. А. Свасьян [2008: 315].
361
Ср. [Хазан 1992: 103–104].
362
Ср. [Левин 1998: 100; 143].
363
И потаенный антисемитизм Белого в его отношении к чете Мандельштамов, с которыми его свело совместное проживание в Доме творчества в Коктебеле летом 1930 г., и возможные подозрения Мандельштама на сей счет тщательно проанализированы М. Спивак. Отсылаю читателя к ее статье.
364
В пользу этой гипотезы Л. Р. Городецкий [2008: 209] приводит интерлингвистический резон, отмечая «резк[ую] пароними[ю] немецких (немецко-идишских) лексем liegen ‘лежать’» и «fliegen ‘лететь’». Смелый подход, открывающий простор для всевозможных конъектур!
365
См. [Харджиев 1973: 297].
366
Оба эти разночтения приводятся в: [Мандельштам 1967: 513–514]. Мною они сверены по журнальным первопубликациям. Надо отметить, что отсутствующая в версии «Простора» запятая перед словом «молодой», возможно, пропала по техническим причинам, так как между словами «лежи» и «молодой» имеется двойной интервал.
367
Ср.: «Пунктуация в [прижизненных рукописных] сборниках, так же как в отдельных копиях, всецело принадлежит Н. Я. Мандельштам и потому допускает перемены» [Семенко 1997: 6].
368
«Русская поэзия ХХ века: Антология русской лирики от символизма до наших дней» (М., 1925). «Испуганной бьется птицей…» цит. по переизд.: М., 1991 (с. 279).
369
Предшествующие публикации: Между могилой и тюрьмой: «Голубые глаза и горячая лобная кость…» на стыке поэтических кодов // Ruthenia, дек. 2007
370
Песенные характеристики стихотворения перечисляет Б. А. Кац в разбираемой ниже статье: [Кац 1994: 250–251].
371
Обе цитируемые далее работы Б. А. Каца – «В сторону музыки» (1991) и «Песенка о еврейском музыканте: “шутка” или “кредо”?» (1994) – в несколько иных редакциях вошли в его книгу 1997 г. – см. [Кац 1997: 201–223] и [Там же: 224–249] соответственно. Значимых разночтений или дополнений обсуждаемые мною фрагменты в повторной публикации не содержат, однако в ней отсутствует последний раздел статьи 1991 г., на текст которого я не единожды ссылаюсь.
372
И принятая затем в комментарии М. Л. Гаспарова [2001: 779].
373
Этому предполагаемому приему не оказывают существенной семантической поддержки даже саночки, поскольку гармонь ассоциируется с большими санями, запряженными тройкой, входя вместе с ними в эмблематику русского разудалого гулянья.
374
В подтверждение своей гипотезы Б. А. Кац [1994: 259] указывает на перекличку между строками 14–15 и тем местом в «Четвертой прозе» (II, 351–352), где о есенинском стихе «…Не расстреливал несчастных по темницам» сказано: «он полозьями пишет по снегу» (что расценивается автором статьи как параллель к мотиву «саночек»). Там же упомянуты московские псиные ночи (по мнению Б. А. Каца, соотносимые со словами «На улице темно»), а несколько далее использован глагол твердить (но никак не связанный ни с музыкой, ни с лермонтовской генеалогией этого глагола и образованного от него причастия в АГ). Тем не менее можно смело утверждать, что это место «Четвертой прозы» не имеет с АГ ни одного общего тропа, образа или мотива. Нет даже слова, употребленного там и здесь в сходном контексте.
375
И, нужно добавить, в согласии с обобщающими положениями статьи Ю. И. Левина «О соотношении между семантикой поэтического текста и внетекстовой реальностью» (1973), где, в частности, говорится, что в стихах Мандельштама «в сфере отношений между предметами <…> привычные, узаконенные здравым смыслом отношения расшатываются, разрушаются. Эти нарушения логики здравого смысла проявляются прежде всего в сфере синтаксиса, поскольку (в первом приближении) именно синтаксические отношения в речи отражают вещественно-логические отношения в реальности. Возникающие при этом новые, неузуальные отношения так же, как и “новые модальности”, способствуют появлению “новых смыслов”. <…> наблюдается своеобразная десинтаксизация речи <…>» [Левин 1998: 65]. С. В. Полякова [1997: 76 сл.] демонстрирует на ряде примеров «слабость логических сцеплений» в мандельштамовских текстах, анализирует изощренные способы маскировки этой слабости и приводит сходные соображения, высказанные в начале 1920-х гг. Цветаевой и Лунцем.
376
Текст стихотворения цит. по [Мандельштам 1995: 198]; по этому изданию он воспроизводится и в (I, 155–156). В дальнейших примечаниях приводятся все разночтения между этим изданием и другой авторитетной публикацией (в составе «Комментария к стихам 1930–1937 гг.» Н. Я. Мандельштам), базирующейся на текстологических реконструкциях И. М. Семенко: [Мандельштам Н. 2006: 251–252].
377
Версия И. М. Семенко: «заученную». По поводу слова «Играл» (стих 8) Н. Я. Мандельштам сообщает: «“Твердил” он наизусть – изредка проскальзывало (в голосе), но всегда отменялось. Диктуя машинистке, вероятно, нечаянно сказал “затверженную” и поправил» [Мандельштам Н. 2006: 252]. Можно предположить, что в сознании поэта, не определившегося с окончательным вариантом этой строфы, эпитет «заученную» сочетался с обоими вариантами действия – «играл» и «твердил», тогда как альтернативный эпитет «затверженную» – только с вариантом «играл», во избежание лексической тавтологии.
378
По версии И. М. Семенко, в конце строки 11 вместо запятой – тире.
379
Ср.: «…после чисто балладных первых двух строф вторгается собственный голос автора <…>, сразу же выводящий из внешнего мира в некий “иной”, и этот увод поддерживается вторжением внефабульной “итальяночки” и, далее, возвращением авторского голоса» [Левин 1998: 72].
380
Вместе с тем остается загадкой, почему предполагаемое начало ответной реплики не только не обозначено кавычками или тире, но, напротив, замаскировано запятой в конце предшествующего (11-го) стиха. Правда, согласно текстологии И. М. Семенко, в этом месте стоит не запятая, а тире; с большой натяжкой это тире могло бы расцениваться как почин прямой речи в следующем (12-м) стихе. Но поскольку в последней строфе, варьирующей «припев», вышеупомянутому тире соответствует опять-таки запятая, такая возможность блокируется и в этой редакции.
381
Ср.: [Видгоф 2006: 114].
382
В стихах 17–20 можно, правда, усмотреть своего рода манифестацию артистического самоотречения в противовес гедонистическому настрою стихов 13–16, но этот настрой как-то не вяжется с образом Бозио – профессионалки, достигшей успеха самоотверженным трудом.
383
По версии И. М. Семенко, в конце строки 16 вместо тире – двоеточие.
384
По версии И. М. Семенко: «А там». Вариант «Там хоть» Н. Я. Мандельштам упоминает как черновой. Подразумеваемый смысл, очевидно, не передается в полной мере ни одним из этих двух вариантов, но их совмещением: «А там хоть».
385
По версии И. М. Семенко: «Скерцевич».
386
На «Молитву» Лермонтова как источник стихов 7–8 указывалось уже в комментариях к вашингтонскому «Собранию сочинений» [Мандельштам 1967: 493]. Ср. перечисление текстуальных совпадений между АГ и лермонтовским «Штоссом»: [Толкач, Черашняя 2003: 35].
387
Подробно об этом см. [Кац 1994: 253].
388
Правда, в неопубликованной книге «Рембрандт» (1924) Аким Волынский косвенно распространяет определение «еврейский музыкант» как на исполнителя еврейской увеселительной музыки, так и на музыканта-еврея, играющего в оркестре, однако в первую очередь он применяет его к особому национальному типу музыканта-одиночки, играющего для самого себя: «Есть такие еврейские музыканты, которые не годны для оркестра: они слишком индивидуальны. Они не годны также и для шумных пирушек или свадеб: для этого они слишком меланхоличны. Такие музыканты играют только для самих себя, и игра их полна переливающихся слез, вздохов, ешиботных мечтаний и фантастических блужданий по самым неведомым краям мира. Такова скрипка Израиля: не всеспасительная, не освободительная, в европейском смысле слова, а покорительная и элогимная в таинственно гиперборейском значении этого понятия» (цит. по [Толстая 2013: 628–629]).
389
С той мыслью, что «[в] отличие от “с утра до вечера” в повествовательной части, здесь “темно” означает не время суток, а самое эпоху» [Толкач, Черашняя 2003: 37], можно было бы охотно согласиться, если бы на месте дизъюнкции (не… а…) была конъюнкция (не только… но и…).
390
Ср., впрочем, музыку как источник тепла в черновом варианте стихотворения: «Он музыку приперчивал / Как жаркое харчо». Ср. и шубу как предмет одежды, уместный посреди холодной улицы, но тавтологичный по отношению к помещению; в очерке 1925 г. «Шуба» так и сказано: «словно дом свой на себе носишь» (III, 22).
391
Как бы исчерпывая парадигму своих значений, в стихе 19 наречие «там» появится уже в качестве темпоральной категории.
392
Речь идет, разумеется, не о реальном темпе игры, а о семантической окраске действия, совершаемого в субъективном циклическом времени.
393
Б. А. Кац упоминает и другие возможности: «…Или же, напротив, ему предлагается бросить вглядывание в темные улицы, грозящие гибелью, вернуться к роялю и целиком предаться музыке? Или же впрямь соседу по квартире предлагают бросить бренчать, чтоб не мешать поэту?» [Кац 1994: 252]. Однако первый из этих вариантов очень сомнителен, поскольку отсутствие прямого указания на то, что именно музыканту следует перестать делать, детерминирует восполнение этой лакуны за счет того длящегося действия, о совершении музыкантом которого сообщалось прямо. Во всяком случае, текст не дает оснований думать, что музыкант перестал играть. Можно было бы, впрочем, допустить, что он вглядывается в темноту, не прерывая игры, и его действительно призывают не отвлекаться, сосредоточиться на своем занятии (интонационно с таким допущением хорошо согласуется почин 9-го стиха). Но тогда его предполагаемое возражение в стихах 12–20, подтверждающее приверженность музыке, потеряло бы смысл, и нам пришлось бы заключить, что это вовсе не ответная реплика, а продолжение слов, обращенных к музыканту в стихах 9–11. А такая возможность, как я писал выше, фразеологически противоестественна (и, добавлю, композиционно сводит на нет функцию «припева»). Второй же вариант (обращение к соседу по квартире) не противоречит основной версии, а только добавляет к ней снижающий бытовой обертон.
394
По мнению Б. А. Каца, просьба «Брось» представляет собой «полемический парафраз припева песни» Идл мит а фидл, где, наоборот, «еврейского музыканта просят играть» [Кац 1994: 256], и подразумевает призыв бросить играть Шуберта [262] в порядке «отказ[а] от иллюзий ассимиляторства» и вернуться к музыке-голубе, тождественной «клезмерско[му] пиликань[ю]», ибо «с ним-то (а не с Шубертом, как принято интерпретировать строки 17–20) как раз и “не страшно умереть”» [264]. Эта концепция всецело покоится на допущении, что песня Идл мит а фидл входит в число основных подтекстов АГ, – допущении, которое исследователь сам признает недоказуемым и выдвигает лишь на правах рабочей гипотезы [258].
395
На эту параллель мне любезно указал О. А. Лекманов.
396
Ср.: «…Веселье так и кипело. В самый разгар его на площади появились большие сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел человек, весь ушедший в белую меховую шубу и такую же шапку. Сани объехали кругом площади два раза; Кай живо привязал к ним свои санки и покатил. Большие сани понеслись быстрее и затем свернули с площади в переулок. Сидевший в них человек обернулся и дружески кивнул Каю, точно знакомому. Кай несколько раз порывался отвязать свои санки, но человек в шубе кивал ему, и он ехал дальше. <…> Вдруг <…> большие сани остановились, и сидевший в них человек встал. Это была <…> Снежная королева; и шуба и шапка на ней были из снега. | – Славно проехались! – сказала она. – Но ты совсем замерз? Полезай ко мне в шубу! | И, посадив мальчика к себе в сани, она завернула его в свою шубу; Кай словно опустился в снежный сугроб» (пер. А. Ганзен) [Андерсен 1983: 165].
397
Ср.: «…определение “воронья” <…> может быть понято как <…> “жалкая”, “облезлая” (если уподобить неопрятные вороньи перья шубе) <…>» [Видгоф 2006: 452].
398
Поздний текст восполняет семантические лакуны АГ: «Не раскаркается здесь веселая, кривая, / Карличья, в ушастых шапках стая» («На доске малиновой, червонной…», 1937). Те, кого Мандельштам уподобил ворóнам, одеты в мех. При этом эпитет карличья, содержащий характерную аллитерацию (но, возможно, с дополнительным парономастическим намеком на кроличий мех ушастых шапок) и относящийся к детворе с фламандских полотен (в соответствии со средневековым восприятием ребенка как взрослого-карлика), подтверждает фокусировку на пропорциях и масштабах при обращении поэта к вороньей теме (см., впрочем, и другое понимание строк о карличьей стае: [Хазан 1992: 171]). В этой связи К. В. Елисеев обратил мое внимание на то, что птицы и дети, соседствующие на зимних пейзажах Брейгеля, у Мандельштама слиты воедино: исходная метонимия преобразована в метафору. И действительно, до того как прийти к метафорическому образу вороньей шубы на вешалке Мандельштам в «Египетской марке» и сам объединил его элементы (или их эквиваленты) по принципу метонимии: «Старый учитель музыки держал на коленях немую клавиатуру. Запахнутый полами стариковской бобровой шубы, ерзал петух, предназначенный резнику» (II, 301). Конвергенцию немой клавиатуры (stummes Klavier) и петуха, предназначенного резнику, можно рассматривать как структурный прототип взаимоналожения мотивов умирания певицы и застывшей музыки, сконцентрированной в шарманке (см. ниже). О пушкинских коннотациях зимних изображений детворы в воронежских стихах см. [Тоддес 1998: 324].
399
Все ремарки, шрифтовые выделения и купюры в цитируемом тексте принадлежат Б. А. Кацу. – Е.С.
400
Ср. также [Видгоф 2006: 451].
401
Ср., к примеру, упоминание «враноподобно[го] <…> тушинско[го] вор[а]» (Лжедмитрия II) в виршах Тимофея Акундинова [РСП 1970: 88].
402
Ср. в «Египетской марке»: «Но уже волновались айсоры – чистильщики сапог, как вороны перед затмением, и у зубных врачей начали исчезать штифтовые зубы» (II, 279) (тире после слова «айсоры», пропущенное в этом издании, вставлено мною. – Е.С.).
403
В русском поэтическом употреблении ворон и ворона предстают не столько разными птицами, как в природе, сколько разными модусами одной и той же птицы: ворон в общем соответствует высокому модусу, а ворона – низкому. Тем самым у Мандельштама происходит последовательное снижение трагической темы: эпитет воронья уничижает шубу, а эвфемизм вешалка – неназванную виселицу. О взаимозаменимости вороны и ворона у Мандельштама свидетельствует оппозиционная парность вороньей шубы с музыкой-голубою: в позднейшем стихотворении «С примесью ворона голуби…» (1937) в оппозицию к голубям попадет, наоборот, ворон (впрочем, эта взаимозаменимость осуществляется в рамках константного сочетания в поэзии Мандельштама черного и голубого цветов и их разнообразных субституций, – см. [Тоддес 1993: 49]).
404
Этот мотив виселицы сообщает пословице «Умирать – так с музыкой!», данной намеком в стихах 17–18 (см. об этом выше), оттенок «музыкального номера», который в сказках исполняет герой, приговоренный к казни (и обычно музыка совершает спасительное чудо). Ср. [Cavanagh 1995: 231].
405
«Шли плечи-вешалки, вздыбленные ватой, апраксинские пиджаки, богато осыпанные перхотью, раздражительные затылки и собачьи уши. <…> Тут была законом круговая порука: за целость и благополучную доставку перхотной вешалки на берег Фонтанки к живорыбному садку отвечали решительно все» (II, 281).
406
Ранее уже отмечавшаяся: [Видгоф 2006: 451].
407
Репутация (зло)вещей птицы закрепилась и за вороном, и за вороной с античности, которая в этом аспекте не проводила различия между двумя птицами (за едва ли не единственным известным исключением, – см. [Эзоп 1968: 287]). Нет его и в стихах Мандельштама: «… вещих ворон крик» («Сегодня дурной день…», 1911); «И перекличка ворона и арфы / Мне чудится в зловещей тишине» («Я не слыхал рассказов Оссиана…», 1914).
408
Ср., между прочим, песню Шуберта «Ворон» («Die Krähe») из цикла «Зимний путь».
409
Ср. обратную гиперболу в «Сыновьях Аймона» (1922): «Так сухи и поджары, что ворон им каркнет “брысь”».
410
Ср. расхожее пересечение этих двух мотивов, как, например, в пушкинском отрывке «Альфонс садится на коня…» («То были трупы <…> Давно повешенных <…> Клевать их ворон прилетал») или в упомянутой в этой же связи Л. М. Видгофом [2006: 450] «Эпитафии, написанной Вийоном в форме баллады для него и его сотоварищей перед повешением», вошедшей в книгу эренбурговских переводов из Вийона (1916), экземпляр которой был подарен переводчиком Мандельштаму («…Летали вороны – у нас нет глаз»).
411
О предполагаемых подтекстах этого образа см.: [Ronen 1983: 275], [Ронен 2002: 59–62], [Амелин, Мордерер 2001: 81 сл.]. Ср. также [Ронен 2005: 39–40].
412
Подробно об этом см. [Ронен 2002: 53–55].
413
С забавной заменой единственного числа на множественное при полной омонимии двух этих грамматических форм: «Нет на свете мук сильнее муки слова…».
414
Ср. характерную ассоциацию, посетившую А. Г. Горнфельда в связи со слухами о сумасшествии Мандельштама: «…меня будут винить в том, что я затравил М., как Буренин Надсона» (цит. по [Морозов 2002: 294]). Возможно, эта параллель была спровоцирована мандельштамовскими размышлениями о феномене Надсона в «Шуме времени» (II, 217–218).
415
Соединив эту способность ворона с его репутацией (зло)вещей птицы, Эдгар По воспроизвел старинный барочный эффект: см. 3-ю сцену последнего акта «Герцогини Мальфи» Уэбстера, где аналогичную функцию выполняет эхо.
416
Пер. А. А. Аникста. В оригинале: «…for there is an vpstart Crow, beautified with our feathers, that with his Tygers hart wrapt in a Players hyde, supposes he is as well able to bombast out a blanke verse as the best of you: and beeing an absolute Iohannes factotum, is in his owne conceit the onely Shake-scene in a countrey» («Groats-worth of Witte…»).
417
О Росции и о вóроне у Макробия рассказано по отдельности. О генезисе клишированного сравнения с вороной в чужих перьях см. [Дашевский 2005: 59].
418
В переводе Н. А. Холодковского (1923): «Когда я однажды <…> выразил некоторую гордость тем, что видел своего деда сидящим посреди совета старшин одною ступенью выше других <…> то один из мальчиков насмешливо сказал, что мне следовало бы посмотреть, как павлину на свои ноги, на моего деда с отцовской стороны, который был трактирщиком в Вейденгофе <…>» [Гете 2003: 74]. Реплика, адресованная юному Гете, строится на контаминации двух конкурирующих бестиарных стереотипов: согласно одному из них, павлин кичится своим пышным нарядом и тем самым олицетворяет гордыню; согласно другому, павлин стыдится своих ног и потому является эталоном смирения (см. [СБ 1984: 156]).
419
Метафора вороны в краденом оперенье вполне приложима и к музыкальному псевдониму Камилл Шуберт, под которым в Париже, как рассказывает Гейне [1956–1959: VIII, 216], производитель «жалчайшего песенного хлама» воровал славу у Франца Шуберта. Об этом сообщении Гейне в связи с мандельштамовской заявкой на повесть «Фагот» см. [Кацис 2002: 318]. Но известен и симметричный эпизод, связанный с Шубертом, – когда «ворона» обвинила «павлина» в посягательстве на ее «оперенье»: Франц Антон Шуберт, «саксонский королевский композитор церковной музыки», «остался в истории главным образом как автор курьезного письма некоему издателю, который по ошибке вернул ему рукопись “Лесного царя”; в этом письме Ш. обрушился на неизвестного ему “дерзкого композитора”, злонамеренно подписавшего его именем свой “вздор”» [МСГ 2001: 1027].
420
«Какой извращенный иезуитизм, какую даже не чиновничью, а поповскую жестокость надо было иметь, чтобы после года дикой травли, пахнущей кровью, вырезав у человека год жизни с мясом и нервами, объявить его “морально ответственным” и даже словом не обмолвиться по существу дела!» (III, 491). О связи этого пассажа с «Венецианским купцом» см. [Кацис 2002: 530–532].
421
Ср. [Видгоф 2006: 452].
422
Ср. пепел → мýка → мукá. По наблюдению С. Г. Шиндина, «соединение фигуры Горнфельда с образом попугая и его именование – “попка имени <…> Владимира Галактионовича Короленко” <…> – может мотивироваться не только историко-литературными реалиями взаимоотношений Горнфельда и Короленко, но и приводимой Шкловским в статье “О поэзии и заумном языке” обширной цитатой из “Истории моего современника”, где подробно описывается урок немецкого языка, построенный на многократном скандировании слова “попугай”» [Шиндин 2009: 360].
423
Ср. также: «Это история сердца, обернутая в идиому французского apprendre par coeur – “учить наизусть” (дословно – “учить сердцем”). И это apprendre par coeur становится именем – кого? – еврейского музыканта Александра Сердцевича с полозьями рифмы “apprendre / Александр”» [Амелин, Мордерер 2009: 336].
424
Ср., например, предсмертные слова Екатерины Татариновой, воспроизводимые А. Радловой по историческим свидетельствам: «Скопи не тело, а сердце» [Радлова 1997: 142].
425
Хотя у Костера скаред и детоубийца рыбник – не еврей, он чрезвычайно похож на еврея антисемитского мифа, и Мандельштам тонко пользуется этим сходством. В частности, рыбник похваляется, что крестьяне любят его жирные вафли, явно объясняя себе это двойным предназначением вафельницы с отвинчивающимися зубьями, благодаря которому вафли удобрены детской кровью. Пойманного убийцу мать убитой девочки терзает его же вафельницей, а он умоляет проявить милосердие к старику. В «Четвертой прозе» эта вафельница превращается в другое клыкастое орудие, чья функция созвучна фамилии поэта – старика с изувеченным сердцем: «Как стальными кондукторскими щипцами, я весь изрешечен и проштемпелеван собственной фамилией. <…> Я, стареющий человек, огрызком собственного сердца чешу господских собак <…>» (II, 357). О контексте и подтексте причастия проштемпелеван (соотв. «Еще далёко мне до патриарха…» и речь Горнфельда «Новые словечки и старые слова» на съезде преподавателей русского языка и словесности в Петербурге 5 сентября 1921 г.) см. в замечательной статье Б. М. Гаспарова «“Извиняюсь”» [Гаспаров Б. 1993].
426
Как отмечалось в этой же связи, «в русской антисемитской традиции обрезание иудеев сравнивалось с самооскоплением русских скопцов. Это один из мотивов “бейлисиады” В. В. Розанова» [Кацис 2002: 537].
427
В написанной незадолго до «Александра Герцовича» другой «песенке» появляется такая же, как в стихах Парнок, рифма [Всё] равно – вино: «Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли, / Всё равно. / Ангел Мэри, пей коктейли, / Дуй вино!».
428
Кроме того, ресторанный антураж стихотворения Парнок мог отразиться в строках отброшенной Мандельштамом строфы: «Он музыку приперчивал, / Как жаркое харчо». С. Липкин упоминает в этой связи порцию харчо, ради которой музыканты приходили из консерватории в ресторан «Арагви» [Липкин 1994: 27].
429
Ср. также строки «Как стон со ста гитар» (Пастернак) и «Струну дерет смычок» (Парнок). Хотя у Парнок глагол Играй адресован искристому вину, семантически он смешивается с игрой на скрипке в ресторане (поэтому симметричное рефренное восклицание Брось у Мандельштама предстает нарочито контрастным по отношению к предполагаемому подтексту). Этот эффект смешения значений имеет любопытный прецедент в стихотворении И. П. Клюшникова «Малютка» <1840>, написанном всё тем же трехстопным ямбом с чередованием дактилических и мужских рифм. В нем глагол играть употребляется в значении ‘забавляться’, но за счет «тесноты стихового ряда» перенимает и значение музыкальной игры: «Малютка просит песенок, / Играть меня зовет, / И складно бьет ручонками, / И радостно поет. <…> Назад тому пятнадцать лет / Я много песен знал. / Я верил в жизнь, я жизнь любил, / Я жизнию играл. <…> Играй, моя малюточка <…> И вот уж мы сквозь слез поем / Про счастье, про любовь». Ср. также лексические совпадения: затверженную / твердил ← «“Эх, времечко! Эх, времечко!” – / За мной она твердит»; Сердцевич ← «Пугает сердце прошлого / И будущего даль».
430
Явную связь вариаций Парнок на темы Сафо с Мандельштамом отмечает Г. А. Левинтон [1977: 235].
431
Эта шутка приводит на память пошловатые рассуждения Волошина (в его сводной рецензии 1917 г. на две книги стихов – Парнок и Мандельштама), который отождествляет лирический голос Парнок с женским контральто (а мандельштамовский – с юношеским басом), подводя к цитате из Теофиля Готье: «Меня пленяет это слиянье / Юноши с девушкой в тембре слов – / Контральто! – странное сочетанье – / Гермафродит голосов!» [Волошин 1988: 547]. Ср. [Там же: 772]. О женском контральто в «Египетской марке» в качестве намека – через волошинскую рецензию – на Софью Парнок см. [Кацис 2002: 196–197].
432
Об этом античном мотиве (у Платона, Антипатра Сидонского и др.) см. [Левинтон 1977: 136].
433
Ср. по поводу реминисцирующей «Черепаху» фразы о том, что «высокий, математический лоб Софьи Перовской <…> веет уже мраморным холодком настоящего бессмертия» («Барсучья нора», 1922») (II, 89): «Определение математический относится к ассоциативно связанной с Софьей Перовской – Софье Ковалевской, т. е. ясно, что для Мандельштама здесь важно само имя Софья в силу его греческой этимологии <…> и фонологического сходства с именем Сафо. <…>» [Левинтон 1977: 154].
434
Это давнее наблюдение Н. И. Харджиева [1973: 299] выпало из поля зрения последующих комментаторов. В письме к М. Л. Гаспарову от 3 окт. 1995 г., опубликованном после смерти адресата, О. Ронен сетует на то, что в своей книге 1983 г. среди прочего «прозевал <…> “движенье, движенье, движенье” из “Das Wandern”», а в примечаниях, которыми снабжена публикация переписки, указывает, что цитатность концовки стихотворения «На мертвых ресницах Исакий замерз…» была (читай – впервые) отмечена Б. А. Кацем в 1991 г. [Ронен 2006: 70, 74] (см. [Кац 1991а: 127]).
435
Что, по наблюдению К. В. Елисеева, служит прямой отсылкой к песне «Gefror’ne Tränen» из цикла «Зимний путь» (которую Б. А. Кац [1991а: 118] упоминает в числе источников стихотворения «Возможна ли женщине мертвой хвала?..»).
436
Как отмечает Г. А. Левинтон, с момента смерти Гумилева и под влиянием «Заблудившегося трамвая» («Верной твердынею православья / Врезан Исакий в вышине, / Там отслужу молебен о здравье / Машеньки и панихиду по мне») Исаакиевский собор выступает у Мандельштама «только в погребальных контекстах», причем основой для мобилизации этого образа в стихотворении «На мертвых ресницах…» могло послужить то обстоятельство, что Ваксель и Гумилев происходили из одного и того же рода Львовых [Левинтон 1994: 35–36].
437
Этим наблюдением со мной поделился Р. Д. Тименчик для моих более ранних изысканий: [Сошкин 2005: 24].
438
Что и было отмечено уже в программно-акмеистической рецензии Городецкого (1913) на первый «Камень»: «Давно сказано, кажется Шлегелем, что музыка есть жидкая архитектура, а архитектура – окаменевшая музыка. Восстановленное в своих правах слово легче всего находит защиту против музыкальности – в архитектурности» [Мандельштам 1990: 215].
439
Ср. [Гинзбург 1990: 264]. Отмечу также характерное для того периода стремление приблизить, с одной стороны, морскую раковину, а с другой – раковину ушную к музыкальным артефактам: «Где, наконец, тот поставщик живых скрипок для надобностей поэта – слушателей, чья психика равноценна “раковине” работы Страдивариуса?» (II, 6).
440
На момент создания НСВ, для которых побудительным толчком послужила работа над радиосценарием «Молодость Гете», метафора архитектуры как застывшей музыки должна была ассоциироваться у Мандельштама прежде всего с Гете как одним из ее канонизаторов. В то же время не исключена и побочная ассоциация с Герценом (отчасти спародированным в Александре Герцовиче, – см. ниже), в чьей статье «Дилетанты-романтики» (1843) сравнение зодчества с застывшей музыкой появляется со ссылкой на Шеллинга. Вполне возможно, что там-то оно впервые и обратило на себя внимание молодого Мандельштама, на творчество и убеждения которого чтение Герцена оказало огромное воздействие. Об этом емко написала Н. Я. Мандельштам: «При мне О. М. Герцена уже не читал, но, несомненно, это одно из формообразующих влияний его жизни. Следы активного чтения Герцена разбросаны повсюду – и в “Шуме времени”, и в страхе перед птичьим языком, и в львенке, который поднимает огненную лапу и жалуется равнодушной толпе на занозу – эта заноза станет щучьей косточкой, застрявшей в ундервуде – и в переводах Барбье, и в понимании роли искусства» [Мандельштам Н. 1970: 178].
441
Ср. другую интерпретацию: [Видгоф 2006: 448].
442
Как сообщает по этому поводу музыкальный словарь, «непрерывная фигурация шестнадцатыми олицетворяет вращение прялки» [МСГ 2001: 1026].
443
Да и сам трехстопный ямб АГ является размером старинной песенки о Мальбруке, раздающейся из неисправной шарманки Ноздрева (с той лишь разницей, что мужские окончания там чередуются с женскими, а не дактилическими, как у Мандельштама). Песенка упоминается в «Шуме времени» (II, 213).
444
См.: [Ronen 1983: 274], [Кац 1991: 76].
445
Существенно, что для Мандельштама и его современников песни Шуберта звучали главным образом в женском вокальном исполнении. В 1918 г. под впечатлением от концерта О. Н. Бутомо-Названовой Мандельштам написал стихотворение «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…», в котором голос певицы косвенно сравнивался с материнским, поющим колыбельную: «Нам пели Шуберта – родная колыбель». В начале века «единственн[ая], неповторим[ая] исполнительниц[а] песенных циклов» [Белый 1990а: 425] М. А. Оленина-д’Альгейм пленила своим искусством Блока [1960–1963: VIII, 72–73] и Белого, впоследствии вспоминавшего: «Поражали: стать и взрывы блеска ее сапфировых глаз; в интонации – прялка, смех, карканье ворона, слезы; романс вырастал из романса, вскрываясь в романсе; и смыслы росли; и впервые узнание подстерегало, что “Зимнее странствие”, песенный цикл, не уступит по значению и Девятой симфонии Бетховена» [Белый 1990а: 428].
446
Перевод Анненского при жизни Мандельштама не публиковался. В оригинале: «Wunderlicher Alter, / Soll ich mit dir geh’n? / Willst zu meinen Liedern / Deine Leier dreh’n?» (букв. пер. Б. А. Каца [1991: 76]: «Чудной старик! Не пойти ли мне с тобой? Ты хочешь вертеть шарманку под мои песни?»).
447
Ср. комментарий М. Л. Гаспарова к скрипке прадеда: «Прадед Ваксель по матери <…> обладал скрипкой работы Маджини, XVI–XVII вв. – эта итало-русская перекличка упреждает смертную русско-норвежскую <…>» [Гаспаров М. 2001: 798].
448
Ср. в стихотворении 1925 г., также связанном с О. Ваксель: «…за вечным, за мельничным шумом» («Я буду метаться по табору улицы темной…»).
449
Обезьянка при шарманщике, эта воплощенная эмблема плагиата и симуляции, иногда изображаемая в виде самого шарманщика, представляет собой низовое продолжение популярного в западноевропейском жанровом искусстве XVII–XVIII вв. образа обезьяны-художника – имитатора имитатора Творца. Обезьяна-художник выражала артистическую саморефлексию «человека рисующего», его полуироничное осознание себя «обезьяной Бога» – дьяволом (по крылатому выражению Иринея Лионского). Ср. у Случевского преображение Мефистофеля в шарманщика (в цикле «Мефистофель», 1881). Генезис обезьяны при шарманщике, маркирующей обезьянничанье в квадрате, прослежен от Набокова – вспять, к Ходасевичу и Бунину, в статье А. К. Жолковского [2006]. Бессмысленный самоповтор, характеризующий действия обезьянки – ассистентки гадателя (см. [Мец 1995: 583]), выражен у Мандельштама в словах Изобразиеще нам, Марь Иванна! («Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…», 1931). О буддийских истоках «обезьяньей» темы у Мандельштама см. [Мачерет 2007: 183–185].
450
Ср. [Анненский 1979: 40]. Восприятие Мандельштамом шарманочной музыки как замерзшей отразилось уже в стихах 1914 г.: «Подруга шарманки, появится вдруг / Бродячего ледника пестрая крышка» («“Мороженно!” Солнце. Воздушный бисквит…»). Вместе с тем своим сближением с шарманкой бродячий ледник, вероятно, обязан стихотворению Бунина «С обезьяной» <1908>, о котором зашла речь в предыдущем примечании. Помимо таких деталей, как шарманка и лед, который гремит в проезжающей фуре, у Бунина также упомянуты пыль и тень акаций (у Мандельштама дело происходит средь пыльных акаций); наконец, в обоих текстах есть назывное предложение, которое либо содержит слово «солнце», либо им исчерпывается. Мандельштаму, таким образом, принадлежит одна из ранних поэтических реплик на бунинское стихотворение. К тому же 1914 году относится и другая – «Цыгане» Пастернака [Тименчик 1997: 93]. При этом несомненный источник комплекса ‘беседка + грации + акации’ – «Беседка муз» Батюшкова [Струве Н. 1988: 17]; кондитерская тема у Мандельштама отныне срастается с этим батюшковским подтекстом – ср. варианты того места «К немецкой речи», которое, помимо «Беседки муз», отсылает к «Переходу через Рейн» и вообще к творчеству Батюшкова [Тоддес 2008]: «Война – как плющ в беседке шоколадной / И далека пока еще от Рейна» (I, 481); «Воспоминаний сумрак шоколадный / Плющом войны завешан старый Рейн / И я стою в беседке виноградной <…>» (I, 482) и др. Гипотеза О. А. Лекманова [2000: 511–513] о северянинском подтексте стихотворения Мандельштама представляется не вполне доказательной.
451
Присущей и зеркалу, которое в НСВ корчит всезнайку.
452
По замечанию Б. А. Каца, звучание одной сонаты вечной «воплощало смутную тревогу и вызывало своим вечным повторением, вечным возвращением к собственному началу ощущение безысходности <…>» [Кац 1991: 76].
453
Ср. стереотип вороны как одинокой, покинутой птицы, восходящий к античным представлениям о ее единобрачии (см. [Ф 1996: 101]).
454
Ср., впрочем, попытку отождествить одну сонату вечную с конкретной шубертовской сонатой – си-бемоль мажор, написанной композитором в сентябре 1828 г., незадолго до внезапной смерти [Толкач, Черашняя 2003].
455
Ср.: «…осведомленный в истории музыки Мандельштам мог знать о доклассическом значении термина “соната”: любое произведение, предназначенное для инструментального, а не вокального исполнения. К тому же знавший итальянский язык поэт, возможно, обратил внимание на то, что итальянское слово sonata обозначает некое неопределенное звучание, например звон, и еще – самоё игру на музыкальном инструменте. Может быть, и в квартире на Маросейке звучала не собственно соната Шуберта, но какая-то “вечная игра”, в основе которой могла оказаться любая шубертовская пьеса» [Кац 1991: 75]. Нужно, однако, заметить, что мы не знаем, насколько Мандельштам владел итальянским ко времени написания АГ.
456
«Самоедские нервы и кости / Стерпят всякую стужу, но вам, / Голосистые южные гости, / Хорошо ли у нас по зимам? / Вспомним – Бозио. Чванный Петрополь / Не жалел ничего для нее. / Но напрасно ты кутала в соболь / Соловьиное горло свое. / Дочь Италии! С русским морозом / Трудно ладить полуденным розам» («О погоде. Часть вторая», 1865). Указывалось также на дополнительный, «лирико-философский» подтекст – «За горами, песками, морями…» (1891) Фета [Гаспаров, Ронен 2003].
457
О сказочных («детских») подтекстах стихотворения см. [Успенский Ф. 2008: 73–87].
458
Слово дичок, означающее, по Далю, «непривитое плодовое дерево», в поэтическом словаре Мандельштама относится к цветку розы: «Розовый мусор <…> негодный дичок» («Армения», 1930) (появляется также в «Стихах о неизвестном солдате»: «Я – дичок[,] испугавшийся света»).
459
Ср.: «Шуб медвежьих вороха <…> Розу кутают в меха» («Чуть мерцает призрачная сцена…»). Черты (по-медвежьи) неуклюжей красоты присущи облику Ваксель в стихах, обращенных к ней в 1924 г. («Жизнь упала, как зарница…»).
460
«Вскоре мы переехали в Царское Село, на Царский павильон, где была квартира моего будущего отчима, – вспоминала О. Ваксель. – <…> В кабинете была громадная тахта, которая иногда изображала корабль в открытом море, иногда дом и сад для моих медведей (в куклы я никогда не играла)» [Ваксель 2012: 56]. Об этой страсти к плюшевым медведям Мандельштаму, очевидно, было известно, как уже не раз отмечалось (в том числе и в комментарии к этому месту воспоминаний [Там же: 219]). См. царскосельскую детскую фотографию О. Ваксель с одним из таких медведей на вклейке к тому же изданию.
461
Ср. в «Египетской марке»: «Она приподнялась на подушках и пропела то, что нужно, но не тем сладостным металлическим гибким голосом, который сделал ей славу и который хвалили газеты, а грудным необработанным тембром пятнадцатилетней девочки-подростка, с неправильной неэкономной подачей звука, за которую ее так бранил профессор Каттанео <…>» (II, 298).
462
Прим. Л. Гервер: «В фрагменте, не вошедшем в основной текст “Египетской марки”, названо имя: “черноволосая Бовари”» [Гервер 2001: 228].
463
См. [Мандельштам Н. 1992: 89].
464
Ср. в басне Эзопа «Ласточка и ворона»: «…ворона ласточке сказала: “Твоя красота цветет лишь весной, а мое тело и зиму выдерживает”» [Эзоп 1968: 129]. Упомяну, вслед за Л. М. Видгофом [2006: 453], еще одну басню – «Соловей и вороны» Хемницера, где вороны служат аллегорией писателей-завистников.
465
Ввиду неустоявшейся текстологии стихотворения стоит отметить, что с аллюзией на Герцена лучше согласуется другой вариант написания – Герцевич, принятый в изд. [Мандельштам 2001: 137]. В этой редакции, подготовленной С. В. Василенко, текст в остальном комбинирует версии И. М. Семенко и А. Г. Меца (совпадая в стихе 19 со второй из них, но в остальном воспроизводя особенности первой). Впрочем, он отклоняется от них обеих еще и в стихе 18: после запятой здесь добавлено тире.
466
История русской поэзии уже знала подобный прецедент. В 1802 г. Жуковский опубликовал перевод «Сельского кладбища» Грея с посвящением А. И. Тургеневу. Эта печатная редакция перевода «кончается надгробной надписью умершему юноше-поэту <…> Неожиданная смерть Андрея Тургенева наполнила новым содержанием эту эпитафию для всех его друзей по литературному обществу <…>» [Алексеев 1967: 146].
467
Сюда же относится инвектива, спровоцированная названием брошюры Горнфельда «Муки слова». До сих пор комментаторы Мандельштама не принимали в расчет того обстоятельства, что впервые «Муки слова» были опубликованы в виде статьи в коллективном сборнике 1900 г., посвященном столетнему юбилею Пушкина (см. подробно: [Алексеев 1967: 46]). В этой первой публикации название было длиннее: «Муки слова (Памяти Пушкина)». Учитывал Мандельштам, конечно, и наличие в «Муках слова» пространных рассуждений о пушкинском «Памятнике».
468
Ср. также наречие слегка в первой из двух цитат.
469
В числе лейтмотивов «Египетской марки» А. К. Жолковский указывает на «‘(само)отождествление Парнока с жертвой’ – казнимым “человечком”, с которым его гротескно путает и Кржижановский; к смешению подключается также рассказчик благодаря игре с местоимениями (топить человечка ведем “мы”) и общей системе приравниваний своего ‘я’ к Парноку» [Жолковский 1994: 147].
470
Фраза является контаминированной реминисценцией «Шинели», чей герой после смерти пускается отнимать у обывателей шинели, а те, кто его ограбил, и все им подобные симметричным образом объявляются «мертвецами», и «Коляски», чей герой «вышел в отставку по одному случаю, который обыкновенно называется неприятною историею: он ли дал кому-то в старые годы оплеуху или ему дали ее, об этом наверное не помню <…>» [Гоголь 1937–1952: III, 179].
471
Вот один из примеров того, как обвинения в самозванстве возвращаются обвинителям: «Еще ребенком меня похитил скрипучий табор немытых романес и столько-то лет проваландал по своим похабным маршрутам, тщетно силясь меня научить своему единственному ремеслу, единственному занятию, единственному искусству – краже» (II, 354–355). О мандельштамовском мотиве опровержения тождества см. [Левинтон 1989а: 44].
472
По наблюдению Г. А. Левинтона, это место представляет собой точную параллель к «знаменит[ому] пример[у] психического расстройства Глеба Успенского, ассоциировавшего свое имя и отчество (Глеб и Иванович) с двумя разными людьми, в лучших фрейдистских традициях, Иванович был средоточием всего дурного» [Левинтон 1999а: 747]. В пассаже о Николае Давыдыче Г. А. Левинтон усматривает «такое же “шизофреническое” расподобление имени и отчества, с той разницей (особенно интересной в том случае, если повесть действительно генетически связана с биографией Успенского), что униженным и подчиненным оказывается “отец”, а не “сын”, вернее, носитель отчества, а не имени, но здесь “раздвоение личности” обусловлено не семейным, а национальным конфликтом (и, разумеется, присущим автору, а не герою) – той раздвоенностью русского еврейства (и тем более русского поэта-еврея), которую остро ощущал в себе самом Мандельштам <…>» [Там же: 748]. Ср. также [Пеньковский 2012: 35].
473
Б. А. Кац и сам упоминает о брате поэта Александре Эмильевиче, имя которого в сочетании с подлинным именем их отца – Шацкель – указывает на присущий Александру Герцовичу элемент автопроекции [Кац 1994: 254].
474
Рыбий мех – фразеологизм, обозначающий мех плохого качества, негреющий мех (встречается, например, в рассказе Чехова «Мороз», как подсказывает фразеологический словарь). Но Мандельштам использует его не столь однозначно (и благодаря этому речевое клише вновь оживает): рыбьим мехом укрывается пусть рядовой, но все же седок, не пешеход: «Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом, / Все силюсь полость застегнуть». Вслед за О. Роненом [Ronen 1983: 285] приведу цитату из «Холодного лета», где образ, близкий рыбьему меху, относится как раз к дорогой пушнине: «…дорогие шубы в ломбарде – рыжий, как пожар, енот и свежая, словно только что выкупанная, куница рядком лежат на столах, как большие рыбы, убитые острогой…» (III, 29).
475
Уместность этой параллели удостоверяется эпиграммой по адресу Павла Васильева, где небывальщина выражает органическую несоединимость двух национальных начал: «Мяукнул конь и кот заржал – / Казак еврею подражал» (1932/33).
476
О. Ронен характеризует его как «the sad and humorous scherzo-like piece» [Ronen 1983: 273–274].
477
Прямо противоположный эффект был подмечен Мандельштамом в другом месте поэмы: «Если следить внимательно за движением рта у толкового чтеца, то покажется, будто он дает урок глухонемым, то есть работает с таким расчетом, чтобы быть понятым и без звука, артикулируя каждую гласную с педагогической наглядностью. И вот, достаточно посмотреть, как звучит двадцать шестая песнь, чтобы ее услышать» (II, 180–181). Ср. в уже цитированном (см. прим. 181) письме М. Л. Гаспарова к О. Ронену (1993): «В “Флейты греческой…” стих “И слова языком не продвинуть…” перекликается с марровскими утверждениями, что речь далеко не сразу стала звуковой. (Мандельштаму они были не чужды, потому что почти то же самое писал Гумилев в “Слове” и “Поэме начала”) <…>» [Ронен 2006: 64].
478
О связи между «постыдной речью» и «горячей жидкой пищей» у Мандельштама (с привлечением, в частности, цитированного фрагмента «Разговора о Данте») см. [Ронен 2010а: 82–84].
479
Автор «Разговора» испытал мощное воздействие концепции Макса Нордау о связи синестезии с регрессом. В этом отношении Мандельштам, как отмечено Ю. Г. Цивьяном, очутился на общих теоретических позициях с Эйзенштейном. «…то, в чем мыслитель-медик видел болезненный симптом, Эйзенштейн-теоретик возводил в принцип здорового искусства. Искусство будит в нас биологическую память. <…> Искусство уводит наши чувства из отведенных им в сознании светлых ниш в глубины нерасчлененного, досознательного, осязательного бытия – пускай на стадию устрицы, если кому угодно» [Цивьян Ю. 2010: 44].
480
Первая публикация: «Жил Александр Герцович…»: Материалы для комментария // «Сохрани мою речь…», 5 (2). – М., 2011. – С. 407–459.
481
Здесь и далее в этой главе, кроме особо оговоренных случаев, стихотворения Мандельштама цит. по [Мандельштам 1995].
482
В публикации 1971 г. (Mandel’stam’s Monument not Wrought by Human Hands // California Slavic Studies, VI. Festshrift for G. Struve. – P. 43–8), интегрированной затем в его книгу «Essays on Mandel’štam» (Cambridge, Mass., 1976) и ее русскую версию – [Тарановский 2000]. См. также [Cavanagh 1995: 260].
483
О программном равнении Мандельштама на пушкинские даты в 1930-е годы см. [Гаспаров Б. 1994: 124–161].
484
См. в монографии М. П. Алексеева о сепулькральном характере оды Горация «Exegi monumentum…» [Алексеев 1967: 143] и о соответственном ее восприятии Пушкиным [145; 149].
485
В которых именно «и развивается мотив вечности славы поэта», по замечанию позднейшего интерпретатора КП [Войтехович 1996].
486
Этот пушкинский стих впоследствии ляжет в подтекст стиха «Всяк живущий меня назовет» из отброшенной строфы «Стихов о неизвестном солдате» [Лекманов 2000: 552], [Ронен 2002: 118].
487
По замечанию Е. А. Тоддеса [1998: 314], в КП «поэт “сдвинул мира ось” раньше, чем в “Оде” приписал это Сталину».
488
Эта инвариантная модель (ср., к примеру, тему Третьего Завета в творчестве Маяковского и Есенина: [Вайскопф 2003: 409]) проникла и в современную Мандельштаму рецепцию «Памятника». Ср. у Л. В. Пумпянского, глубоко усвоившего идею рубежа XIX–XX веков о Третьем, славянском, Возрождении: «Все верно до слова. Эти люди [Гораций, Державин, Пушкин. – Е.С.] не солгали ни один. Все три сказали точную правду. Только четвертого уже не будет, потому что Муза отлетела и после смерти Пушкина отношения поэта к поэзии не суть отношения к Музе. Кончилась 3000-летняя история <…>» [Пумпянский 2000: 209]. К вопросу о подтекстах мотива закругления земли на Красной площади ср.: «Из воронежских реминисценций Цветаевой, кажется, не отмечалась еще одна московская строка: “На Красной площади земля всего круглей” может восходить к шестому стихотворению из цикла “Бессонница” (также [6] – ст. ямба) знаменательного 1916 года: “Сегодня ночью я целую в грудь / Всю круглую воюющую землю” в контексте Красной площади (“Тусклый Кремль мой”) и “первенства”, приписываемого Москве: “от всех ворот единственной столицы” – ср. тему Красной площади уже в стихах, прямо связанных с Мандельштамом <…>: “Я доведу тебя до площади […]” <…>» [Левинтон 1998: 744]. Сходные соображения высказывает и Е. А. Тоддес [1998: 322–323].
489
В сербском варианте книги Тарановского цитированная реплика, собственно, и появляется в рамках развернутого возражения Йовановичу [Taranovski 1982: 286], которое лишь частично было перенесено в русское издание [Тарановский 2000: 207–208].
490
Ср.: «Это стихотворение о Красной площади, где “всего круглей земля”, оказывается предшественником глобального образа “Стихов о неизвестном солдате” с его вложенными друг в друга черепами Адама на Голгофе (Лобной горе, ср. с Лобным местом из мандельштамовского стихотворения), разрывом земли на Голгофе, разверзанием небосклона» [Кацис 1991a: 58]; «“Красная площадь” явно приобретает коннотацию лобного места; в соединении с мотивом возвышенности, холма этот образ проецируется на Голгофу. Твердость и округлость <…> вызывают в памяти значение слова голгофа – “череп”, “лысая голова”» [Войтехович 1996]. Автор последней цитаты повторяет и мысль М. Йовановича [Joвановић 1976: 173], будто в слове скат слышится кат, – правда, с учетом исследованной К. Ф. Тарановским [2000: 195] семантической специфики покатости в варианте «Стихов о русской поэзии», II (1932) (тут земля наделена двойным эпитетом, аналогичным эпитету нечаянно-раздольный: «И угодливо-поката / Кажется земля – пока, / И в сапожках мягких ката / Выступают облака»).
491
Тарановский возражает на это: историческое прошлое, когда на Красной площади вершились казни, никак не отразилось в тексте КП, которая всецело обращена к настоящему и будущему, что явствует и из грамматического времени ее глаголов [Taranovski 1982: 287].
492
В 1936 г. Мандельштам так и подписался под стихотворением годичной давности: «Шизоидный психопат» [Рудаков 1997: 178].
493
Об антитетизме Мандельштама см. во введении и в гл. VII.
494
Ср. также замечание Тарановского: «“шевеленье губ” у Мандельштама не только метафора. Существует целый ряд показаний, что Мандельштам, “работая стихотворение”, в действительности беззвучно шевелил губами» [Тарановский 2000: 122–123].
495
Ср.: «У Гумилева, да и у других акмеистов, есть парные стихотворения, с противоположными или дополнительными системами ценностей» [Ронен 2005: 182–183].
496
Ср. в печально известном предисловии к изданию «Библиотеки поэта»: «Большой размах патриотической мысли чувствуется <…> в строках поэта, посвященных Советской отчизне и ее людям. Мировое значение Советской страны, ее международное влияние символизирует для поэта величественный образ Красной площади: На Красной площади земля всего круглей», и т. д. [Мандельштам 1973: 33].
497
Хотя в [Мандельштам 1995: 493] и в (I, 490) слово «красной» набрано со строчной буквы, здесь оно, вслед за прочими научными изданиями, дается с прописной – в целях унификации с текстом КП.
498
В 4-томном «Собрании сочинений» в начале 2-го стиха стоит тире, обозначающее прямую речь [Мандельштам 1993–1999: III, 335]; текстологический комментарий здесь отсутствует, а в двухтомнике, на базе которого готовилось это издание, никакого тире нет [Мандельштам 1990а: I, 433], как нет его и в остальных научных изданиях начиная с харджиевского, где это четверостишие впервые приводится [Мандельштам 1973: 300]. Судя по всему, и в «Собрании сочинений» тире появилось по недоразумению.
499
В образе смолы кругового терпенья Д. И. Черашняя видит отображение «нравственного состояния эпохи <…> – в продолжение и развитие “круговой поруки” из “Египетской марки” (имеется в виду сцена, где работал бондарь-страх)» [Черашняя 2000: 40]. В таком случае смола кругового терпенья и совестный деготь труда противопоставлены друг другу как страх и совесть в дизъюнктивной формуле «не за страх, а за совесть». Другую оппозицию совестный деготь труда находит себе в образе блуд труда из стихотворения того же времени («Полночь в Москве…», 1931). В связи с двойным намеком – интер– и интралингвистическим – на кровь и ее цвет в словосочетании блуд труда (Blut + руда) [Безродный 2011: 370–371] аналогичный колористический прием угадывается и в словосочетании деготь труда с его таким же «слипшимся» словоразделом: деготь черного цвета + руда красного. Ср.: «…стакнутые “смола” и “круг” выделяют друг в друге инфернальные, дантовские обертоны <…>. <…> Днем кануна этого стихотворения, возможно, датирована запись Мандельштама о чтеньи некрасовского Власа: “‘<…> Видел света преставление, | Видел грешников в аду’. <…> Дант лубочный из русской харчевни” <…>; здесь в ассоциативное поле писавшего могло попасть и ахматовское стихотворение 1912 года: “<…> Пусть хоть голые красные черти, | Пусть хоть чан зловонной смолы!..”. В силу этих размышлений об иконографии ада единство формулы единства “смола кругового терпенья” может поддерживаться и непроизнесенным паронимическим именем смоляных лаков, употреблявшихся живописцами, – терпентина» [Тименчик 2004: 557]. Формула смола терпенья зеркально отображает формулу терпенье смолы из пастернаковского «Лета», в точности так же расшифрованную О. Роненом: «ключ к каламбурной метафоре “о терпком терпеньи / Смолы” <…> находим в слове терпентин» [Ронен 1989: 293]. «Сохрани мою речь навсегда…» датировано 3 мая. «Лето» Мандельштам либо слышал в исполнении автора, либо успел прочесть в только что вышедшем апрельском номере «Нового мира», а может быть, то и другое вместе. О поэтической полемике Мандельштама с Пастернаком в марте 1931 г. и личном общении поэтов в этот период см. [Мандельштам Н. 1970: 157–158]. К ветхо– и новозаветным коннотациям ряда мотивов «Сохрани мою речь…» см. [Хазан 1992: 48–50]. Также см. сближение КП с «Сохрани мою речь…» по признаку общности мотивов «земляной казни» и посмертной жизни поэтического слова: [Тоддес 1998: 320].
500
По другой версии, речь идет о самолете: [Тоддес 1998: 312]. Ср. мотив разлета в «Лишив меня морей…» как обозначение порабощенной людьми стихии воздуха (см. ниже).
501
Ср. иной ход мысли с похожим результатом: «Миг, солнца золотое вымя / Коснется скоро дальних труб, / Что тщетно закрывают дымом / Истому возалкавших губ» (Д. Бурлюк, «Закат солнца над волнами», кн. «Энтелехизм», 1930).
502
Другой источник образности этих строк – мандельштамовский перевод из Бартеля, где завод с его паровым гудком уподоблен пароходу: «Под дымным вымпелом корабль кирпичный, / Огромный, на ходу, уверенный завод. / И пар, начальник музыки фабричной, / Дружину молотов ведет».
503
Исправляю неточную цитату: «Добро, строитель чудотворный! – / Шепнул он, злобно задрожав, – / Ужо тебе!..».
504
См. [Струве Н. 1988: 94]. – Е.С.
505
Оно было отмечено О. Роненом задолго до публикации воспоминаний Я. Я. Рогинского [Ronen 1983: 279].
506
«Литературная Грузия», 1967, № 1, с. 59. Об этом посвящении см. [Мандельштам Н. 2006: 362].
507
Убийство Кирова долго было самым обсуждаемым политическим событием. Даже спустя полгода после него, в июне 1935 г., Н. Я. Мандельштам, вернувшись из Москвы, «привезла оттуда <…> рассказы, ходившие по Москве, об убийстве Кирова (“ему понадобился труп”)» [Мандельштам Н. 2006: 357]. Тема была тем более актуальна, что именно вследствие убийства Кирова С. Б. Рудаков был выслан из Ленинграда (из-за своего дворянского происхождения) и очутился в Воронеже [Рудаков 1997: 9]. Надо полагать, О. М. и Н. Я. Мандельштамы хорошо сознавали, что если бы приговор за антисталинские стихи выносился после этого убийства, чуда (которым была ссылка вместо ожидаемого расстрела) уже не случилось бы.
508
Другая знаменательная роль Куйбышева – организатор коллективизации – небезразлична для большой темы, сосредоточенной вокруг апрельского стихотворения «Чернозем». Упоминаемые в нем «[к]омочки <…> земли и воли», намекающие на прошедший в 1879 г. в Воронеже съезд «Земли и воли» [Мандельштам 1990а: I, 539], можно расслышать и в КП, где на всем протяжении текста варьируются разные значения слова земля, а в конце появляется невольник.
509
Ср. другую интерпретацию: «Мандельштам строит космогонию нового мира, соотнося его начало с рождением большевика, который выходит из-под земли в результате магического акта, связанного с папоротником, зацветающим на Ивана Купала и открывающим скрытые в земле клады. Этими кладами оказываются поднимающиеся наружу “горючие пласты” боли, они же и залежи каменного угля» [Мусатов 2000: 469].
510
Новозаветные и секулярные коннотации этого прилагательного, добавляющие множество обертонов к смыслу, заданному «Надписью…», тщательно изучены. См. суммарное описание литературы вопроса: [Проскурин 1999: 290, 438–439].
511
Цит. по [Алексеев 1967: 57]. «Надпись…» имела хождение в разных редакциях; ср. другую редакцию: [Ивинский 2003: 294]; см. также [Пумпянский 2000: 680].
512
Оппозиция Петра-камня и Гром-камня, им попираемого, проанализирована в работе М. Н. Виролайнен [2003].
513
В отличие от совестного дегтя в «Сохрани мою речь…», где он обозначает, по-видимому, беспросветно-тяжкий, безрадостный труд. Вообще нужно отметить, что на протяжении большей части творческого пути Мандельштама, вплоть до середины 1930-х гг., труду в его поэзии был присущ негативный семиозис, вероятно, мотивированный формулой приговора Адаму в Книге Бытия. Ср. уже в «Черепахе» (1919): «О, где же вы, святые острова, / Где не едят надломленного хлеба, / Где только мед, вино и молоко, / Скрипучий труд не омрачает неба / И колесо вращается легко». Перечисленные дары земли (мед, вино и молоко) мыслятся как достающиеся не в поте лица – в противоположность отвергаемому хлебу. Предлагаемое толкование дополняет гипотезу Р. Пшибыльского о ветхозаветных и апокрифических коннотациях трех напитков [Przybylski 1987: 188]. Не вникая в аргументы Пшибыльского, К. Ф. Тарановский [2000: 136–137] сходу их отметает и предлагает понимать триаду «мед, вино и молоко» как «обычные предметы возлияний, т. е. бескровных жертв» у древних греков (Г. А. Левинтон [1977: 146–147; 210] принимает и развивает это толкование). При этом исключение хлеба из утопического рациона Тарановский объясняет весьма неубедительно: «На святых островах не только не душат кур и не потрошат черепах, но даже “не едят надломленного хлеба”» [Тарановский 2000: 136]. Основательнее выглядит предположение о том, что обитатели святых островов употребляют лишь напитки, приличествующие для возлияний умершим (что и утверждал Тарановский, но делая при этом акцент на их бескровном характере), а хлеб отвергают как земную пищу, и что в контексте дальнейшего упоминания о праздности этот мотив согласуется с описанием Острова Блаженных во II-й Олимпийской оде Пиндара, где сказано, что праведные «приемлют безмятежную жизнь, не тревожа силою своих рук <…> земли» (пер. В. В. Майкова, <1898>) [Ковалева, Нестеров 1995: 164]. Но, думается, такая трактовка нисколько не противоречит библейской.
514
Ср. в тогда же написанном «Ты должен мной повелевать…»: «Я – беспартийный большевик».
515
Пожалуй, стоит еще отметить необычайное пристрастие к словосочетанию земной шар, присущее М. А. Бакунину.
516
О том, что стихи 3–8 – «это слова учителя (возможно, реминисцирующие характеристику Маяковского в статье “Буря и натиск” <…>), повторяемые учеником», пишет Е. А. Тоддес [1998: 312]. Отзвуком этого пассажа явилось, наравне со стихом «Пусть шар земной положит в сетку школьник», упоминание «земно[го] шар[а], который Маяковский обошел почти весь и всерьез» (III, 197), в рецензии, написанной летом 1935 г. На нее в этой связи обратил мое внимание О. Лекманов.
517
Ранее реминисценция этой пьесы промелькнула в «Четвертой прозе» (1930) [Гаспаров Б. 1993: 119].
518
Здесь и далее «Мистерия-буфф» (обе редакции) цит. по [Маяковский 1955–1961: II].
519
Догадка Михаила Зенкевича, в стихотворении 1924 г. отождествившего остров малый, где похоронен был Евгений, с островом Голодай, где были погребены казненные декабристы, закрепилась и в пушкиноведении (см. об этом [Осповат, Тименчик 1985: 16–17]). Основные источники, трактующие наводнение 1824 г. в «Медном всаднике» как аллегорию восстания декабристов около памятника Петру в следующем году, перечисляются Якобсоном [1987: 179, прим. 36] и комментируются Н. В. Измайловым [1978: 255–256].
520
Иисусово хождение по водам, поминаемое здесь по ассоциации с потопом, как бы уравновешивается неупомянутым переходом Моисея через расступившееся Чермное море. Контаминация черт Моисея и Христа, в русской традиции типичная для панегирических уподоблений монарха-Кормчего начиная с петровского барокко и охотно подхваченная риторикой «большевистского вождизма» (выражение М. Вайскопфа [2003: 423]; см. там же литературу вопроса), характерна и для Мандельштама – как безотносительно к этой традиции, в стихах 1910 г.: «И в пустоте, как на кресте, / Живую душу распиная, / Как Моисей на высоте, / Исчезнуть в облаке Синая» («Мне стало страшно жизнь отжить…») (ср. [Хазан 1992: 50]), – так и в прямой зависимости от нее, в стихотворении 1918 г. «Прославим, братья, сумерки свободы…», где тот, «кто в смутное время принимает ответственность за власть революционного народа <…> в целом уподоблен Моисею или Христу» [Ронен 2002: 131].
521
Подразумевается, конечно, не ванная, а ванна: Маяковский пошел на поводу у равносложной рифмы. Впоследствии он воспользовался ею уже без ущерба для здравого смысла, причем на сей раз рифмующие сегменты оказались в отношениях семантического тождества: «…это / белее лунного света, / удобней, / чем земля обетованная, / это – / да что говорить об этом, / это – / ванная» («Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру», 1928).
522
В этом эпизоде получает смысл использование библейского разделения животных на чистых и нечистых с точки зрения их пригодности или непригодности в пищу. Ср. слова Вельзевула: «Сами знаете, какие теперь люди? / Изжаришь, так его и незаметно на блюде. / Нет этих мешочников в ризе. / Сами понимаете – продовольственный кризис. / Притащили на днях рабочего / из выгребных ям, / так не поверите – нечем потчевать» (1-й вар.).
523
Возможно, слова Мафусаила, занятого подготовкой к торжественному приему праведников: «Доишь облака, сын мой? <…> Надоишь – и на стол. / Нарежьте даже / облачко одно, / каждому по ломтику», – отразились еще в стихотворении Мандельштама (кстати, впервые опубликованном в сборнике 1923 г., в который вошли и тексты Маяковского): «Давайте бросим бури яблоко / На стол пирующим землянам / И на стеклянном блюде облако / Поставим яств посередине» («Опять войны разноголосица…»). Ранее уже отмечалась общая для этого стихотворения и «Мистерии-буфф» проповедь космизма: [Broyde 1975: 155].
524
Во 2-м варианте нечистые сперва находят паровоз и пароход (оба наделены речью) и добывают для них топливо – уголь и нефть. Работая в шахтах, они слышат отдаленный шум производства («колес грохотание, / фабрик дыхание мерное…»), доносящийся из земли обетованной, куда они и отбывают на паровозе.
525
Москва включена в перечисление только во 2-м варианте пьесы.
526
Например, Молот, Серп, Машины, Поезда и др. (2-й вар.). Как отмечает И. Кукуй, полезные вещи на службе у человека в «Мистерии-буфф» представляют собой инверсию темы бунта вещей, весьма доминантной в дореволюционном творчестве Маяковского [Кукуй 2010: 52].
527
Ср. финал стихотворения «Христофор Коломб» (1925): «я б Америку закрыл, / слегка почистил, / а потом / опять открыл – / вторично».
528
О библейских мотивах «Мистерии-Буфф» в контексте большевистской мифотворческой поэзии (включая поэму Демьяна Бедного «Земля обетованная», 1918) см. [Вайскопф 2003: 417–421].
529
Выявлением этого подтекста КП я обязан Ольге Репиной.
530
Земной шар, оплетенный путами рабства, – популярнейший образ, который в 1-м варианте «Мистерии-Буфф» появляется и сам по себе: «У нас паук такой / клещами тыщами / всю землю сжал в обескровленный пук, / рельс паутиною выщемил» (в связи с имплицитным сравнением градусной сетки с паутиной ср. в «Телохранителях» – переводе Мандельштама 1925 г. из Рене Шикеле: «Неразбериха мирозданья мнится вдруг / В кровавой паутинке, в сетке солнечных паров»). Повсеместность соответствующих изображений засвидетельствовал М. Кульчицкий: «Помнишь – с детства – / рисунок: / чугунные путы / Человек сшибает / с земшара / грудью!» («Самое такое», 1941). Иногда коннотациями неволи наделяется и собственно градусная сетка; ср. строки Б. В. Горнунга, приятеля Мандельштама по Московскому лингвистическому кружку: «Зимой вокальной музыки волненье, / Как сеткой градусной, объемлет весь / Дрожащий глобус: там – повиновенье / Приказам ветра, непокорность – здесь» («Перед зимою самодурство ветра…», 1925). В набросках комментария к «Оде» Сталину, приводимых О. Роненом, М. Л. Гаспаров вспоминает «Геркулеса, ворочающего земной полюс на заставке к стихотворению “Цепи” в гротовском Державине» [Ронен 2007: 195]; ср. объяснение под этим рисунком: «Геркулес, утвердивши в шар земной кольцо, хочет повернуть мир своей силою; но Любовь, обернув волчок цветами, спускает, показывая ему сим примером, что иногда шуткою лучше достигнуть можно до цели своих намерений» [Державин 1865: 195–196] (кольцо на рисунке продето в другое, поменьше, соединенное с полюсом, и иллюстрирует мысль о том, что «Оковы тягостны, хотя они златыя», которою Державин утешает адресатку стихотворения в потере золотой цепочки). Ср. у Батюшкова в «Подражании Горацию» (1826), входящем в корпус русских переложений «Exegi monumentum…»: «… кую сей цепи звенья, / В которые могу вселенну заключить». (По наблюдению Ф. Б. Успенского, косари умалишенные в финале последнего дошедшего до нас стихотворения Мандельштама «На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь…» могут отсылать к финальной строке «Подражания Горацию» «умалишенного» Батюшкова: «А Кесарь мой – святой косарь». В самом деле, оба стихотворения обращены к прекрасной особе противоположного пола, с чьей стороны поэт может рассчитывать лишь на дружбу; у Батюшкова упоминаются цари, у Мандельштама – индейский раджа и Алексей Михайлыч. О мандельштамовских аллюзиях на болезнь Батюшкова и его тексты соответствующего периода см. [Тоддес 1986: 100]; в другой публикации Тоддес [2008] отмечает реминисценцию батюшковских стихов 1853 г. «Я просыпаюсь, чтоб заснуть, / И сплю, чтоб вечно просыпаться» в стихотворении «Я нынче в паутине световой…», 1937.)
531
Мотив, перекочевавший в «Юбилейное»: «Можно / убедиться, / что земля поката, – / сядь / на собственные ягодицы / и катись!». Параллель между этими строками и КП не встречалась мне в научной литературе, но она не единожды отмечалась участниками сетевых дискуссий.
532
Этот оксюморон, по-видимому, призван передать смятение.
533
Что сетка в КП указывает на глобус, отмечалось неоднократно. Ср. у того же Маяковского: «Землю возьмут, / обкорнав, / ободрав ее – / учат. / И вся она – с крохотный глобус. / А я / боками учил географию – / недаром же / наземь / ночёвкой хлопаюсь!» («Люблю», 1922).
534
Которое Мандельштам когда-то сблизил, наоборот, с античной плоскостной моделью мира: «Я слышу <…> на краю земли / Державным яблоком катящиеся годы» («С веселым ржанием пасутся табуны…», 1915). Диалектика плоскости и шара подспудно присутствует и в КП, где образ земли, откидывающейся вниз, вероятно, основывается на идее разматывания скатанного, – ср. корреляцию образов шинели и земного шара в тогда же написанных «Стансах», вторая строфа которых, выделенная в отдельное стихотворение, вместо последней строки «И скатывалась летнею порой» имела другой финал: «Земного шара первый часовой» [Мандельштам Н. 2006: 350]. Ср. [Тоддес 1998: 315–316].
535
Окказионально подобная связь возникает у Маяковского в поэме «Летающий пролетарий» (1925), где описана спортивная игра будущего; наравне со взрослыми в нее играют школьники в промежутке между занятиями: «Подбросят / мяч / с высотищи / с этакой, / а ты подлетай, / подхватывай сеткой. <…> Наконец / один / промахнется сачком. / Тогда: / – Ур-р-р-а! / Выиграли очко!». Эти строки в свой черед обнаруживают любопытное сходство с мандельштамовскими: «…И, с тусклой планеты брошенный, / Подхватывай легкий мяч!» («Я вздрагиваю от холода…», 1912). Изображенная в «Летающем пролетарии» игра больше всего напоминает канадско-американскую (исконно индейскую) командную игру лакросс, в которой используются мяч и орудие, представляющее собой комбинацию клюшки и сачка, но эта параллель скорее всего случайна, особенно ввиду того, что поэма написана Маяковским до его американского вояжа в 1925–1926 гг.
536
Ср. в «Египетской марке»: «Уважение к ильинской карте осталось в крови Парнока еще с баснословных лет, когда он полагал, что аквамариновые и охряные полушария, как два большие мяча, затянутые в сетку широт, уполномочены на свою наглядную миссию раскаленной канцелярией самих недр земного шара и что они, как питательные пилюли, заключают в себе сгущенное пространство и расстояние» (II, 272). К этому пассажу Е. А. Тоддес обращается при анализе КП: «… здесь и подтверждение <…> того, что сетка с глобусом – каламбур, обыгрывающий сеть меридианов и параллелей (Парнок думает еще о сетчатке глаза, воспринимающего географическую карту)» [Тоддес 1998: 312]. Символический потенциал образной пары «земной шар – футбольный мяч» использован в романе Л. Кассиля «Вратарь республики» (1938), где члены футбольной команды устраивают импровизированную игру в заводском общежитии (бывшей церкви): «Он отбежал в конец зала и стал там, где когда-то были церковные царские врата. Мяча под рукой не было. Оглянувшись, Бухвостов схватил со стола большой глобус, снял с ножки и бросил в Антона. Ловким приемом вратаря Антон поймал над головой желто-голубой глянцевитый шар. | – Стой, замри, – сказал Карасик. | Антон стоял в царских вратах. Уцелевшие угодники плавали за его плечами на взбитых облаках. Рослый и плечистый, он держал над головой модель планеты. | – Геркулес с глобусом, – сказал торжественно Карасик и подмигнул Антону, – Геркулес с глобусом… Вот такой стоял перед театром Шекспира» [Кассиль 1939: 142]. Эта сцена со всем ее антуражем представляет собой репетицию действа, описанного в финале книги, – показательного матча на Красной площади, которым в 1936 г. впервые завершался традиционный парад физкультурников: «…от Лобного места покатился огромный зеленый вал во всю ширину площади. Спортсмены разматывали гигантскую скатку» [Кассиль 1939: 279]; на месте резных царских врат теперь оказывается вход в собор («Антон стоял в воротах. За спиной, за футбольной сеткой с крупными ячеями, витой, старый, мозаичный, высился Василий Блаженный» [Кассиль 1939: 280]), а Красная площадь, соответственно, разрастается до вселенских масштабов, становясь полем игры за обладание земным шаром.
537
Анаграммирование фамилии Шкловский в слове школьник представляется маловероятным.
538
Ср. в «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» (1926): «Мы идем / сквозь револьверный лай, / чтобы, / умирая, / воплотиться / в пароходы, / в строчки / и в другие долгие дела». Искренней верой в эту утилизирующую метемпсихозу проникнуто написанное в тот же период стихотворение «Ужасающая фамильярность».
539
Ср. в предисловии Мандельштама к книге переводов из Бартеля: «Тоска по обетованной стране культуры, которую должен завоевать пролетариат, напоминает у Бартеля тягу старших немецких поэтов к Италии, к блаженному югу» (III, 132). Как отмечает Г. Киршбаум, эта фраза «представляет собой первую редакцию центральной мандельштамовской формулы “тоска по мировой культуре”» [Киршбаум 2010: 194].
540
При дальнейшей работе над КП текст был расширен за счет усложнения синтаксиса. Его двусмысленность проанализировал К. Ф. Тарановский: «Не совсем ясно, с чем согласовано деепричастие “откидываясь”. Не управляет ли им на расстоянии глагол “твердеть”? Или это несогласованное деепричастие, непосредственно связанное с подлежащим в высказывании без сказуемого <…>? <…> Принимая во внимание тот факт, что эллиптический синтаксис вообще характерен для поэзии Мандельштама, мы бы предложили следующее чтение: 1)… скат [Красной площади] твердеет… откидываясь… до рисовых полей; 2)… скат твердеет [и будет твердеть до тех пор], покуда на земле последний жив невольник» [Тарановский 2000: 205] (текст в квадратных скобках принадлежит Тарановскому). «…6-й стих внушает ожидание глагольного сказуемого, но оно не появляется», – констатирует вслед за Тарановским Е. А. Тоддес [1998: 314], приходя к выводу, что КП «заключается <…> сказуемостной – по отношению к скату – конструкцией, состоящей из нечаянно-раздольный и откидываясь <…>» [Там же: 332]. Думается, однако, что соседство в раннем наброске стихов 3 и 4, в окончательный текст вошедших вразброс, показывает, что условием «Покуда на земле последний жив невольник» исключительно или преимущественно определяется состояние земли на Красной площади (всего круглей), а не ее ската.
541
Ссыльный Мандельштам должен был с новой остротой пережить свое ощущение советской Москвы в 1920-е годы как Запретного города, квинтэссенции азиатского Срединного царства, отвернувшегося от Европы и христианства, – см.: [Видгоф 2006: 71], [Мачерет 2007: 171–172]. Этими представлениями, скрещенными с советским утопическим эсхатологизмом, не в последнюю очередь объясняется политическая двойственность авторской позиции в КП.
542
Р. Войтехович резонно замечает: «Гиперболизированная превосходная степень определения “земли” (“всего круглей”), с одной стороны, действительно, может намекать на возвышенность Красной площади <…> но, с другой стороны, она относится не прямо к площади, а к земле, шарообразность которой не допускает сравнительных степеней» [Войтехович 1996]. Можно поэтому предположить, что говоря о беспримерном закруглении земли на Красной площади, Мандельштам предвосхищает ироническую формулировку Оруэлла: «Все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие».
543
Ср. неодушевленные категории ничто и все в «Интернационале»: «Nous ne sommes rien, soyons tout!» («Сегодня мы ничто, а завтра будем всем» в пер. Н. Минского).
544
В стихотворении 1937 г. «Не сравнивай: живущий несравним…» обнажено восприятие круга как нарушения принципа равенства: «С каким-то ласковым испугом / Я соглашался с равенством равнин, / И неба круг мне был недугом».
545
В «Обороняет сон мою донскую сонь…» (1937) стих «– Рабу не быть рабом, рабе не быть рабой!» представляет собой одновременно вариацию самовнушения из первой советской азбуки («Мы не рабы, рабы не мы») [Успенский Ф. 2008: 96] и ономатопею боя кремлевских курантов, которая, по мнению К. Ф. Тарановского [2000: 197], доказывает аналогичные светлые перспективы, открываемые Кремлем перед невольниками в КП. Под бой часов звучит «радиопение Интернационала» [Гаспаров М. 2001: 805] (финал которого здесь парафразируется). Следует, однако, учитывать, что текст 1937 г. вторит КП не только отдельным мотивом, но и, например, своей композицией: лирический субъект, пребывающий в состоянии перманентного покоя на внутренней, советской, периферии, переносится мыслью в центр, на Красную площадь, а оттуда – на внешнюю периферию, где пребывают невольники всех наций. Осмыслить это сходство помогает отражение каждым из двух текстов эсхатологического зачина «Интернационала». Как известно, стихотворение 1937 г. текстуально пересекается с двумя черновыми набросками оды Сталину; в частности, в обоих набросках есть строка «Страны-земли, где смерть утратит все права», которая в «Обороняет сон…» звучит куда более выразительно: «Страны-земли, где смерть уснет, как днем сова…»; этот сон смерти пребывает в прямой связи с началом стихотворения, не находящим себе параллели в набросках оды: «Обороняет сон мою донскую сонь». Сонь здесь – межеумочное состояние, заменяющее смерть, от которой лирического субъекта как раз и обороняет его сон о Красной площади и о перспективе светлого будущего. Этому будущему тождествен вечный день, обеспечивающий сон совы. В этом будущем (которое встречным образом обороняется от воплощения двойным заслоном – сна и вечного ожидания) толпа рабов обретет свободу и воспрянет из могилы для жизни. Иными словами, для того чтобы рабу не быть рабом, рабе не быть рабой, они должны сперва очутиться в могиле, а уж затем воскреснуть – но едва ли для жизни в прямом смысле слова, а скорее в виде одушевленных вещей, подобно самому поэту в одном из упомянутых набросков оды и в ее окончательном тексте: «…в книгах ласковых и в играх детворы / Воскресну я сказать, как солнце светит». Автобиографическая основа образа донская сонь, указанная К. Ф. Тарановским, – «намек на лето предыдущего (1936) года, проведенное на даче в Задонске», где Мандельштамы безмятежно жили несколько недель [Тарановский 2000: 207], – не идет вразрез с предложенной интерпретацией.
546
Тут нельзя не вспомнить героиню стихотворения «Возможна ли женщине мертвой хвала?..» (3 июня 1935), которую бессилен воскресить стынущий рожок почтальона.
547
Ср. повторы с инверсиями и вариациями в стихах 3–6, имитирующие школьное «заучивание, запоминание, зубрежк[у]. <…> Стоит также принять во внимание семантическую близость глагола заучить (2-й стих) и фоническую близость глагола твердеть (4-й стих) – к неиспользованному в тексте твердить <…>» [Тоддес 1998: 312–313].
548
Ср. [Ićin, Jovanović 1992: 41].
549
«Запятая после морей стоит во всех известных нам изданиях, включающих это стихотворение <…>. Трудно в таких вопросах полагаться на память, но, кажется, в списках 1960-х гг. ее не было», – пишет Г. А. Левинтон [1998: 738]. Как известно, у Мандельштама, особенно позднего, пунктуация не является ни авторской, ни даже, по-видимому, авторизованной. Однако связь каждого из трех слов – морей, разбега, разлета – со своей стихией, кажется, исключает смысловую возможность отсутствия запятой после морей.
550
Нужно отметить, что сетования на порабощающую роль путей сообщения имеют очень давнюю традицию – ср. Тибулл, I, 3, 35–40; Овидий, «Метаморфозы», I, 94–100. Что касается стихии Огня, то и она порой тематизируется как покорившаяся людям, – ср. у Зенкевича («На аэродроме», кн. «Дикая порфира», 1912): «О воздух, вольная стихия, / Тягучая, земная бронь! / Не покоряйся, как другие – / Вода, и суша, и огонь» (три стихии перечислены в порядке, обратном порядку их покорения).
551
А также, как принято считать, описку в стихе 6: -раздельный вместо -раздольный. Кроме того, в этой записи текст еще не разбит на двустишия.
552
Опираясь на выводы латинистов, М. П. Алексеев [1967: 141–142] пришел к заключению, что этим памятником у Пушкина, вслед за Горацием, является то высокое качество продуктов собственного творчества, которое делает их бессмертными.
553
При всей прозрачности намека на Александровскую колонну определение Александрийский / александрийский оставляло возможность утверждать, будто имелась в виду не она, а нечто другое, например, Помпеева колонна в Александрии, о которой в те времена бытовало мнение, будто она является (как писал убежденный в этом приятель поэта А. С. Норов) «памятником основателю Александрии, герою Македонскому» и «стоит на том месте, где стояла гробница Александрова» [Алексеев 1967: 63]. Эта колонна, «наряду со многими другими аналогичными памятниками древности, неоднократно упоминалась <…> в русской печати середины [18]30-х годов в связи с Александровской колонной <…> естественно поэтому, что она была известна и Пушкину и что “столп Александрийский” мог вспомниться ему по ассоциативному сходству тогда, когда он говорил о петербургском “столпе”: прилагательное “Александрийский” получило как бы двойную смысловую нагрузку и тем самым маскировало его истинные намерения» [62]. О восприятии Петербурга в конце первой трети XIX в. как новой Александрии см. [Проскурин 1999: 278–282]. По мнению О. А. Проскурина, двупланность прилагательного Александрийский «призвана была служить не целям “маскировки” подлинного адресата пушкинского стихотворения, а большей символизации образа, включению его в грандиозную культурно-философскую перспективу» [435]. Думается, впрочем, что эти два стимула друг друга не исключают. Однако ничуть не менее значима для корректного восприятия текста вторая составляющая формулы – столп. Поглощенные обсуждением вопроса о референции Александрийского столпа, интерпретаторы «Памятника», как правило, обходили вниманием ближайший его коррелят – Вавилонский столп (очевидно, как заведомо ему не тождественный и к тому же выпадающий из античного контекста). Рискну предположить, что в отвлечении от своего библейского прототипа пушкинский образ теряет вложенный в него смысл. Этот смысл проявляется благодаря отсутствующему и у Горация, и у его более ранних русских перелагателей перечислению, так сказать, субъектов империи, к которым прилагается определение языки в двойном значении (язык как «[н]арод <…> с одинаковою речью» и как «словесная речь человека, по народностям», согласно определениям Даля): «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, / И назовет меня всяк сущий в ней язык, / И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой / Тунгуз, и друг степей калмык». Получается, что эти «субъекты» (перечень которых восходит к статье Жуковского об открытии Александровской колонны – см. ниже, прим. 561), лингвистически разобщенные, в силу некоей инверсионной каузальности, именно этим столпотворением, предпринятым во славу земных правителей, смогут преодолеть свое разноязычие благодаря иному – нерукотворному – памятнику. К двум значениям слова язык добавляется еще одно – ‘орган речи как субститут его обладателя’ – за счет ассоциации с пословицей «Всяк язык Бога хвалит» (на которую мне в этой связи любезно указал С. В. Синельников; пословица вошла в сборание Даля) и при посредстве собирательных этнонимов, изображающих народности индивидуумами. Этим еще более заострена мысль о превосходстве поэта над земными богами.
554
Ср.: «…у Пушкина “душа в заветной лире” от тела отделяется и речь идет о ее посмертной жизни в слове, у Мандельштама слово поэта исходит прямо из могилы, а могила-то – как будто на Красной площади, еще один мавзолей!» [Сурат 2009: 255].
555
Р. Войтехович [1996] тоже стремится найти в КП функциональный аналог Александрийского столпа и полагает, что это Красная площадь, преподносимая здесь как высочайшая точка на планете. Ср. догадку Д. И. Черашней [2000: 38], что в «Египетской марке» Дворцовая площадь служит криптонимом Красной.
556
Ср. подмеченное Д. И. Черашней [2000: 36] анаграммирование имен Мавзол и Ленин в стихотворении «Внутри горы бездействует кумир…». Ср. также вероятный акустический намек на мавзолей в словах на земле за счет их соседства с именем Ленина, с одной стороны, и причастности к мотиву нетленности – с другой: «…Прошелестит спелой грозой Ленин, / И на земле, что избежит тленья <…>» («Если б меня наши враги взяли…»).
557
О. А. Лекманов [2009: 288] обращается к этому стихотворению в связи с характерным для умонастроения Мандельштама воронежской поры травестированием темы Горациева «Памятника». Под тем же углом и в комплексе с КП его рассматривает И. З. Сурат [2009: 253–255].
558
Прим. Ю. Л. Фрейдина: «в действительности Мандельштамы снимали в ту пору жилье на 2-й Линейной улице (ее название звучит в стихотворении), к дому вел крутой спуск (“яма”), ул. Ленина находилась неподалеку» [Мандельштам Н. 2006: 544].
559
Знакомством с этим плакатом я обязан Н. Г. Охотину.
560
Так, например, в последнем кадре мультфильма «Блек энд Уайт» (1933) мы видим Мавзолей с надписью «ЛЕНИН». Ср. между тем концовку литературного источника этой картины – одноименного стихотворения Маяковского (1925): «Негр / посопел подбитым носом, / поднял щетку, / держась за скулу. / Откуда знать ему, / что с таким вопросом / надо обращаться / в Коминтерн, / в Москву?». (Впрочем, с учетом ключевой роли Ленина в учреждении 3-го Интернационала логический переход от Коминтерна к Мавзолею понятен.) Примечателен и вариант концовки 1-й редакции «Мистерии-Буфф», написанный для детского спектакля в 1924 г.: «Ребята, сомкнитесь плечо с плечом. / Никогда пусть никто не ленится / исполнять заветы, данные Ильичем. / Ведь недаром теперь мы – ленинцы… <…> Устали отцы? Так будете сменены / Нами, носящими имя Ленина. / А пока по земле наш победный клич / разнесется звенящей нотой: / Ты не умер, ты жив, Ильич! / Мы / докончим твою работу…» [Маяковский 1955–1961: XIII, 256].
561
Ср.: «В “Памятнике” Пушкина встречаются “гордый внук славян” (русский), финн, тунгус, калмык. В черновике, кроме того, были киргизец, грузинец и черкес. Четыре национальности – русский, финн, калмык и черкес (из черновика) – совпадают с перечнем из статьи Жуковского [об открытии Александровской колонны. – Е.С.]; кроме того, грузинец – это тот же “боец закавказский” [из вышеупомянутой статьи. – Е.С.]. Такое совпадение названий народов далеко не случайно. Пушкин как бы хотел сказать этим: потомки тех, кто сегодня прошел мимо монумента царю, завтра придут к памятнику поэта» [Шустов 1975: 106].
562
Ср. также траурную речь Зиновьева, «канонически упоминавшего о “крае обетованном, который предносился духовному взору Владимира Ильича”» [Вайскопф 2002: 274]. В связи с вопросом о скрытом присутствии образа Сталина в КП (К. Ф. Тарановский и М. Йованович, придерживаясь диаметрально противоположных мнений относительно политической направленности стихотворения, сходились в том, что оно тесно связано со сталинской темой [Joвановић 1976: 176]; Р. Войтехович некритично усматривает в слове скат парономастический намек на имя Сталина) ценно следующее наблюдение М. Вайскопфа: «Что же касается “газетной”, официозно-панегирической рисовки сталинской фигуры, то небезынтересно выделить <…> элементы ленинского культа, воспринятые или, напротив, отвергнутые Сталиным при создании этой персональной религии. Его называют великим кормчим, учителем (вернее даже, корифеем всех наук), но вот, например, образ Моисея ему, видимо, совершенно чужд – просто потому, что он вовсе не собирается умирать на пороге Земли Обетованной» [Вайскопф 2002: 290]. Нужно, впрочем, учесть, что в тех сферах общественной коммуникации, над которыми Сталин не имел контроля, сравнение с Моисеем его не миновало. Вот анекдот 1926 г.: «– Чем отличается Сталин от Моисея? – Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин – из Политбюро» [Архипова, Мельниченко 2010: 124–129, сюжет II.1].
563
Образ пирамид сохранен во всех русских переложениях «Exegi monumentum…» – Ломоносова, Востокова и др., включая главный пушкинский источник – «Памятник» Державина: «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, / Металлов тверже он и выше пирамид».
564
В сходном контексте склеп Мавзола упомянут Проперцием (III, 2); см. об этом: [Пумпянский 2000: 200].
565
См., например, [Тумаркин 1997: 176–177].
566
Ср.: «На протяжении 1930-х гг. образ “буддийской” Москвы Мандельштама сначала детализируется, а с течением времени сужается до размеров Красной площади – центра нового Срединного царства, и Мавзолея – кульминационного центра главного “идеологического” кладбища страны: “На Красной площади всего круглей земля / И скат ее твердеет добровольный” <…> В 1930 г. состоялся перенос тела Ленина <…> в постоянное каменное здание. Строитель усыпальницы А. В. Щусев, знаток мировой культовой архитектуры, выбрал лаконичную форму невысокой усеченной пирамиды <…>» [Мачерет 2007: 182]; «Начавшись деревянным ларем, тема мавзолея через государственный звонкий камень выйдет к метонимическому образу горы, чтобы в 1937 г. завершиться пустячком пирамид <…>» [Черашняя 2000: 37].
567
Д. И. Черашняя убедительно опровергает устоявшееся мнение, будто в стихотворении «Внутри горы бездействует кумир…» (1936) идет речь о Сталине (кремлевскомгорце). По мнению исследовательницы, бездействующий кумир тождествен мертвому Ленину: «Образно-тематическое гнездо с ключевым словом гора <…> аккумулирует мотив мавзолея, причем автометакомментарий в так называемой <Оде> Сталину (“Он свесился с трибуны, как с горы”) <…> снимает вопрос о возможности иных денотатов. Речь идет о горе, искусственно созданной из горных пород» [Черашняя 2000: 36].
568
Как сообщает О. А. Лекманов, «[т]ема революции и гражданской войны в Китае многократно возникает в советской майской прессе 1935 года <…>» [Лекманов 2008]. По мнению И. З. Сурат, «внешний повод к именно такому расширению <…> – “китайская стена” Кремля» [Сурат 2009: 254].
569
Ср. более ранние мандельштамовские коннотации непогребенного вождя: «Образ незахороненного Ленина, начав свое развитие в виде ужасного гоголевского Вия “Четвертой прозы” (1930), в 1931 г. продолжил существование в стихах поэта потерявшим свой (уже не только человеческий, но и мужской) первоначальный облик сморщенным зверьком “в тибетском храме” на Красной площади <…>» [Мачерет 2007: 186].
570
Ср.: «Из знака смерти поэта и гибели поэзии <…> удушье превращается в эмблему органического приобщения поэта к жизни. Голос поэта, забитый землей, звучит в полную силу: то, что он произносит, шевеля губами в земле, “заучит каждый школьник”» [Гаспаров Б. 2003: 28]. О мандельштамовской трактовке метафоры «зерна, которое должно умереть, чтобы принести плод» см. [Там же: 31]. Ср. еще [Тоддес 1988: 192–193]. О связи КП, через мотив земли и зерна, с «Нашедшим подкову» и, возможно, с «Зерном» (1909) Брюсова см. [Тоддес 2005: 445].
571
Эта вариативность расстановки акцентов в стихе 1 КП соответствует аналогичной вариативности в стихе 1 «Памятника», где есть и очевидный интонационный нажим на слово нерукотворный, и не столь очевидный – на слово себе: в отличие от лирического субъекта (и, кстати, от древних правителей, строивших себе усыпальницы при жизни), памятник Александру воздвиг Николай – как бы в пику Екатерине, воздвигшей памятник Петру. Роль Екатерины всячески подчеркивалась панегиристами, включая и Рубана. Об этой интриге Николая против памяти своей бабки см. [Осповат, Тименчик 1985: 33 сл.].
572
Ср. замечание М. Л. Гаспарова по поводу этой же реплики: «Мы неожиданно вспоминаем формулу Вячеслава Иванова a realibus ad realiora, когда-то столь враждебную акмеистам» [Гаспаров М. 1995: 56], – отсылающее, в частности, к статье «Утро акмеизма» (II, 26).
573
Ср.: «…Гораций пожертвовал пирамидами ради Империи, Пушкин – Империей ради неведомого ему мира <…> Стоя в устье Империи, Пушкин развязал связь свою с ней и вступил в вольный союз с вечностью Любви. <…> “не требуй венца” буквально противоположно повелительному наклонению cinge и “венчай”. Но в новой концепции слава как увенчание теряет смысл. Венчает только бессмертное государство <…> Люди же будущего будут не венчать, а любить <…>» [Пумпянский 2000: 208–209]; «Творчество как нерукотворный памятник – в контексте поздней пушкинской поэзии логическое развитие темы Imitatio Christi» [Проскурин 1999: 290].
574
Ср.: «Сравнение “пространства изгнания” с “пространством Красной площади” обнаруживает, что в первом собраны все одушевленные “персонажи” текста – “я”, “школьники”, “невольники”, тогда как во втором есть только “земля” и “скат” ее. Однако “скат” этот описывается как деятельное лицо, он “твердеет” <…> и, к тому же, имеет свою волю. Последнее обстоятельство тем более знаменательно, что персонажи с “периферии” как бы воли не имеют» [Войтехович 1996].
575
А в ранней редакции, как уже упоминалось, – твердеет многопольный. Многопольность подчеркивает невозможность засева из-за отвердения земли.
576
Ср.: «Образ земли на Красной площади противопоставляется отрицательному образу “насильственной земли” из четверостишия “Лишив меня морей” <…> это второе стихотворение, в котором земля – “насильственная”, показывает, так сказать, обратную сторону медали» [Тарановский 2000: 194].
577
Здесь, конечно, вспоминается скрепитель добровольный трудящихся в вариантах «Большевика», – см. [Тоддес 1998: 315]. Ср.: «Смысл прилагательного добровольный расшифровывается сравнительно легко. Оно прямо апеллирует к понятию добровольного выбора, в частности судьбы, со всеми отсюда вытекающими следствиями, вплоть до плахи» [Joвановић 1976: 173].
578
Правда, и глагол твердеет из центральной части КП восходит к Горациеву сравнению – «прочнее меди» (можно предположить, что и в сознании Пушкина эта медь служила опущенным связующим звеном между Александрийским столпом и Медным Всадником). М. Йованович демонстрирует на примерах, что – вразрез с интерпретацией К. Ф. Тарановского – «[в] семантической поэтике Мандельштама глагол твердеть принадлежит к отрицательному полю» [Joвановић 1976: 173].
579
Согласно агадической литературе, этот эпизод варьирует историю Вавилонского столпа (ср. выше, прим. 553).
580
Впрочем, на него, как известно, впервые печатно указал И. Л. Фейнберг в статье, опубликованной в пятом номере московского журнала «Литературный критик» за 1933 г., которая могла быть известна Мандельштаму и непосредственно (учрежденный в том же 1933 г., журнал должен был очутиться в центре внимания), и опосредованно – через кого-нибудь из многочисленных друзей-филологов (в том числе Рудакова) или даже самого Фейнберга, с которым Мандельштамов связывали теплые отношения (судя по его дневниковой записи в мае 1934 г.: «Мандельштам с Наденькой в “Известиях” – в коридоре редакции “Нового мира”. Робко держал ее за руку. Скитальцы – беженцы в мире». – Цит. по [ОиНМвВС 2001: 192]).
581
Что удостоверяется, например, строками Петрова (1786), фиксирующими характерные компоненты библейского микросюжета (Л. В. Пумпянский [2000: 182] цитирует их как явную реминисценцию из Рубана): «Уж тяжка от горы отторгшася гора, / Проплыв валы, легла в подножие Петра».
582
Ср. имплицитное уподобление Орфею Андрея Белого в зачине поминального стихотворения «Он дирижировал кавказскими горами…» (1934) [Безродный 2010: 217].
583
Ср. наблюдение Якобсона относительно стихотворения «Мирская власть» (1836), в котором «намеренно стирается граница между распятием, изображенным на картине Брюллова, и часовыми, охраняющими эту картину» [Якобсон 1987: 168]. (Но см. [Измайлов 1954: 555].)
584
Все четыре примера рассмотрены Якобсоном: [1987: 174]. Ср. отзвук того же мотива в «Шутке, похожей на правду» (1928).
585
Эту понятийную пару Л. В. Пумпянский использует в применении к «Exegi monumentum…» [Пумпянский 2000: 198].
586
Об этой динамике (от КП – к «Оде») пишет И. Сурат: «Посмертная слава <…> отдается поэтом <…> великому тезке-“близнецу” <…> и в веках звучит уже не имя поэта, как у Пушкина, а имя отца народов <…>. Вместо шевелящихся губ поэта здесь “губы чтеца”, транслятора славословий, а поэт от себя отказывается полностью <…>. И в этом отношении ода – путь к написанным вскоре “Стихам о неизвестном солдате”, в которых реминисценция из пушкинского “Памятника” – “Всяк живущий меня назовет” – мелькнула в процессе работы, но осталась в черновиках, и это понятно: “всяк живущий” назовет другого, чья могила будет в мавзолее на Красной площади, а поэт погибнет как неизвестный солдат <…>» [Сурат 2009: 256].
587
А. Г. Мец так характеризует это состояние: «Внутреннее сопротивление сказывалось и возникновением стихотворений, прямо противостоящих “политическим”, – и тем сильнее, что на той же образной основе» [Мец 1995: 605] (имеются в виду, конечно, КП и «Лишив меня морей…», воспринимаемые с позиций К. Ф. Тарановского). Ср. еще: «К Сталину у Мандельштама появилось двойственное отношение. На него давило чувство личной вины перед ним, но не ушло и чувство протеста против его жестокой политики. Вместе с тем к нему вернулся естественный инстинкт самосохранения, вызывавший самый обыкновенный страх» [Герштейн 1990: 353].
588
С наименованием «маленькие уродцы» перекликается определение Е. А. Тоддеса, который видит в КП и «Большевике» «маленькие оды», или «“прото-оды” 1935 г.», «еще без имени Сталина, но открывающие, говоря позднейшими словами поэта, “дорогу к Сталину”, т. е. к собственно “Оде” и <…> “Стансам” 1937 года» [Тоддес 1998: 311].
589
Но в дальнейшем для поэта, горячо желавшего легализовать свой труд, было вполне логично приобщить КП к группе стихотворений, эстетически близких ей, но действительно прорежимных (хотя опять-таки с оговорками, учитывая, например, пушкинский подтекст «Большевика»), в порядке самообмана закрыв глаза на совершенно дикое для советской лирики начало этого текста.
590
Впрочем, как полагает Е. А. Тоддес, ценностный характер выражения всего круглей передается за счет «степени сравнения там, где ее не должно быть. Эта форма потенциально мотивируется как не вполне правильная речь школьника» [Тоддес 1998: 312]. Соответственно, элементы невнятицы в тексте КП могут восприниматься и как «темноты пророческой речи», и как «изъяны школярской» [Там же: 315].
591
Эту чуждость отмечает, например, А. Г. Мец [1995: 610–611].
592
В понимании Л. В. Пумпянского, монументальная архитектура как форма самопрославления государства, неотделимая от него самого, проигрывает в трансисторическом споре с поэзией как неофициальной формой его прославления [Пумпянский 2000: 198–199], ибо сами «монументальные государства» (такие, как Египет) преходящи. В отличие от них Империя в глазах Горация бессмертна, и поэтому римский поэт определяет бессмертие своей славы как совечное Риму [201]. Напротив того, «Пушкин хочет отделить свое бессмертие от возможной смертности Российской империи» и тем самым «[и]з Горация <…> становится египетским, восточным поэтом» [205].
593
Этот эффект был вызван уже одним только переносом глагола полезен в конец стиха, что в контексте 6-стопного ямба создало акустику, характерную для сниженно-бытовой интонации сценической речи.
594
«Выбирая род смерти, О. М. использовал замечательное свойство наших руководителей: их безмерное, почти суеверное уважение к поэзии: “Чего ты жалуешься, – говорил он, – поэзию уважают только у нас – за нее убивают. Ведь больше нигде за поэзию не убивают”…» [Мандельштам Н. 1970: 167].
595
«“Поэзия – это власть”, – сказал он в Воронеже Анне Андреевне, и она склонила длинную шею. Ссыльные, больные, нищие, затравленные, они не желали отказываться от своей власти… О. М. держал себя, как власть имущий, и это только подстрекало тех, кто его уничтожал <…> О. М. упорно твердил свое – раз за поэзию убивают, значит, ей воздают должный почет и уважение, значит, ее боятся, значит – она власть…» [Мандельштам Н. 1970: 178].
596
«В концовке “Оды” 1937 г. использована комбинация тех же блоков, что в [КП]: уничижение (или самоумаление) поэта <…> – воскресение его слова – которое должно произойти с участием детей», – отмечает Е. А. Тоддес [1998: 320].
597
Этот фрагмент мемуаров Э. Г. Герштейн приводит в этой же связи Е. А. Тоддес [1998: 334].
598
Ср.: «…the “horseshoe decres” of “My živem pod soboju ne čuja strany” receive an unexpectedly ethereal, Lermontovian (На воздушном океане) epitet: <…> ленинское-сталинское слово – | Воздушно-океанская подкова. The key to this metaphor is found in “Naušniki, naušnički moi”: the horseshoe-shaped radio earphones through which the poet hears the voice of Moscow in the ether: Необоримые кремлевские слова of “Oboronjaet son” <…>» [Ronen 1983: 87]. Вероятный отголосок воздушно-океанской подковы звучит в стихотворении «Когда заулыбается дитя…» (1936–37): «…Концы его улыбки, не шутя, / Уходят в океанское безвластье».
599
Ср., например, в шотландской исторической балладе «Kinmont Willie», записанной или, возможно, сочиненной Вальтером Скоттом: «My hands are tied, but my tongue is free». Ср. также слова «губами шевелю», произносимые лирическим субъектом, томящимся в тюрьме, в переводе Мандельштама из Бартеля «Ведь любишь ты? Так появись в пустыне…».
600
Например, в отрывке уничтоженных стихов (1931) в духе шекспировского монолога: «Я больше не ребенок! / Ты, могила, / Не смей учить горбатого – молчи! / Я говорю за всех с такою силой, / Чтоб нёбо стало небом, чтобы губы / Потрескались, как розовая глина». Сохранившийся вариант, в котором библейский псалмопевец и Ленин предстают крайними фигурами единого ряда, доказывает тематическую связь отрывка с КП: «Язык-медведь ворочается глухо / В пещере рта. И так от псалмопевца / До Ленина: чтоб нёбо стало небом, / Чтоб губы перетрескались, как розовая глина. / Еще, еще…». Ср. обобщения Стивена Бройда (который, судя по приводимым там же цитатам, видит в соответствующем мотиве КП и «Лишив меня морей…» возврат к образам губ из «1 января 1924» и «Нашедшего подкову»): «The “human lips, which have nothing more to say” are poetic lips. In Mandel’štam’s poetry this metaphor is not infrequent <…> The preserved poetic past (“Human lips which have nothing more to say, / Preserve the form of the last word said”) is followed by a tactile image of remembrance of things past: “And a feeling of heaviness remains in the hand, / Although the clay pitcher half-spilled while it was being carried home”» [Broyde 1975: 196–197]. См. также [Ronen 1983: 252–254], [Тоддес 1998: 320]. Приведенный отрывок из уничтоженных стихов, возможно, реминисцирует строку Кузмина: «И станет роза розой, небо небом» («Восьмой удар» из «Форель разбивает лед», 1929) → «Чтоб нёбо стало небом, чтобы губы / Потрескались, как розовая глина».
601
Цитируемый здесь пассаж выверен по источнику цитаты [Раби Шимон 1994: 321] и является отрывком из примечания М. А. Кравцова к с. 176. Как на параллель к тексту «Зогара» комментатор указывает на талмудическое толкование фразы из «Песни Песней». – Е.С.
602
Источник цитаты: Острер Б. Библейские образы и мотивы в стихотворении О. Э. Мандельштама «Ласточка» // Russian Literature, XLII–2. 1997. – С. 195.
603
Предшествующие публикации: Последний невольник на горе Нево: О стихотворении Мандельштама «Да, я лежу в земле, губами шевеля…». [Начало] // Лехаим, 7. Июль 2010. – С. 22–27; Последний невольник на горе Нево: О стихотворении Мандельштама «Да, я лежу в земле, губами шевеля…». Окончание // Лехаим, 8. Август 2010. – С. 21–26; Последний невольник на горе Нево: О стихотворении Мандельштама «Да, я лежу в земле, губами шевеля…» // Метаморфозы русской литературы: [Сб. статей памяти М. Йовановича] / Сост. К. Ичин. – Белград, 2010. – С. 165–198.
604
О «Ламарке» в связи с положениями статьи «О природе слова» см. [West 1981: 30–31]. К «Silentium» «Ламарка» возвел еще Н. Оцуп в рецензии 1933 г. (см. [Мандельштам 1967: 500]).
605
В мемуарах Г. Иванова читаем: «Звали <…> путешественника – Осип Мандельштам. В потерянном в Эйдкунене чемодане, кроме зубной щетки и Бергсона, была еще растрепанная тетрадка со стихами. Впрочем, существенна была только потеря зубной щетки – и свои стихи и Бергсона он помнил наизусть…» [Иванов Г. 1994: III, 84]. Мемуарист относит этот эпизод к 1910 году, когда Мандельштам вернулся в Петербург после учебы в Гейдельбергском университете. Но, видимо, книга очутилась у Мандельштама раньше, непосредственно после ее выпуска и, как пишет мандельштамовский биограф, «лежала в его чемодане в мае 1908 года, когда он покидал французскую столицу» [Дутли 2005: 40]. Если она действительно пропала вместе с чемоданом, то более вероятно, что это произошло тогда же, в 1908 г.
606
О влиянии «Творческой эволюции» на критическую и художественную прозу Мандельштама см. [Harris 1982], [Nethercott 1991] и др. О бергсоновских коннотациях «Ламарка» см. [Rауfield 1987: 91], [Гаспаров Б. 1994: 189].
607
На связь «Ламарка» с этими строками указывалось и прежде (I, 688). О ранних предпосылках увлечения Мандельштама биологией см. [Тоддес 1986: 102].
608
С диагнозом Нордау любопытно перекликается аналогия, проведенная Н. Я. Берковским в эссе «О прозе Мандельштама» (1930), между стилем Мандельштама и «законо[ом] сопричастного мышления у примитивных», в силу которого «вещи мыслятся не обособленными, а причастными одна к другой» и «в силу причастности <…> “держат” свои признаки “сообща”, свободно меняются ими» [Берковский 1989: 299].
609
См. [Пайман 1998: 12–15]. О рецепции теории Нордау в России см. также [Матич 2008] (по указ.), [Шаргородский 2011].
610
Прим. Тименчика: «…Это несостоявшееся предисловие “Что есть поэзия?” впервые опубликовано в журнале “Аполлон” (1911. № 6)».
611
В связи с позитивной переоценкой диагноза Нордау, поставленного синестетизму, походя упоминает Мандельштама и Ю. Г. Цивьян, чьим главным объектом рассмотрения является рабочая запись Эйзенштейна (1934) по поводу автопортрета Лисицкого (1924), на котором взаимоналожены глаз и рука с циркулем [Цивьян Ю. 2010: 44]. Эйзенштейн, которому мог быть неизвестен иудео-мусульманский амулет, защищающий от сглаза (пятерня с глазом на ладони – хамса), указывает на более далекий пример того, что он именует «руколикостью», – индейскую маску в виде пятерни с отверстиями для рта на ладони и для глаз на указательном и безымянном пальцах. Между тем помимо этих магических аналогов автопортрет может иметь и вполне обыденный иконический прототип – вывеску (кстати, упоминаемую Эйзенштейном, но только в переносном значении: автопортрет аттестуется им как «квинтэссенция – символ – вывеска всем “левым” фото-загибам»). Во Франции рука с глазом служила эмблемой гильдии хирургов и цирюльников, символизируя сверхточность при проведении хирургических операций. Отсюда и наружный вид севильской цирюльни: «разрисованные стекла, три тазика в воздухе, глаз на руке [в оригинале – l’œil dans la main. – Е.С.], consilio manuque, Фигаро» [Бомарше 1966: 82]. Металлический инструмент в зрячей руке – циркуль – этой генеалогии вроде бы не противоречит. Любопытно, что Мандельштам, разрабатывая в группе «итальянских» стихов 1933 и 1935 гг. мотивы синестезии, доступной моллюску, и инволюционных метаморфоз, претерпеваемых поэтами («Что, если Ариост и Тассо, обворожающие нас, / Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз?»), маркирует осязательный канал восприятия посредством образа рýки брадобрея. Из этих казнящих рук получит уксусную губку парадоксальный гибрид Иисуса и Иуды, обладатель моллюскообразных изменнических губ, скрещенных с ухом (ведь это губы неисправимого звуколюба) и глазом (ср. губастый глаз в «Разговоре о Данте»).
612
Эти и следующие за ними строки Данте незадолго до написания «Разговора» Мандельштам слышал в исполнении Ахматовой, вспоминавшей: «Осип заплакал. Я испугалась – “что такое?” – “Нет, ничего, только эти слова и вашим голосом”. <…>» [Ахматова 1990: II, 165].
613
Соотнесение минеральных красок охры и сурика «Армении» с растительными красками «Разговора о Данте» опирается на соображения, изложенные далее, в прим. 33; на формальную проблематичность этого соотнесения мне указал Д. М. Сегал. Мотивировка словосочетания хриплая охра может не исчерпываться выразительной аллитерацией, но также включать в себя потенциальную пару к нему, усиливающую автохарактеристику («Ах, ничего я не вижу» и т. д.) намеком на собственное имя поэта – сиплая оспа. Эта предполагаемая корреляция обеспечивается не только расхожим каламбуром, но и его воспроизведением в чеховской «Попрыгунье» в знаменательном для носителя имени Осип контексте. Услыхав от Дымова, что он заразился дифтеритом, Ольга Ивановна против своего обыкновения называет его по имени: «Ольга Ивановна всегда звала мужа, как всех знакомых мужчин, не по имени, а по фамилии; его имя Осип не нравилось ей, потому что напоминало гоголевского Осипа и каламбур: “Осип охрип, а Архип осип”. Теперь же она вскрикнула: | – Осип, это не может быть!» [Чехов 1985: 26].
614
Cм. гл. IV.
615
В этом усомнился М. Б. Ямпольский [2003]: «Какую ступень занимает лирический герой на подвижной лестнице – внизу или наверху, – мы можем только гадать». Все же, думается, глагол спущусь не оставляет места гаданиям: «На подвижной лестнице Ламарка / Я займу последнюю ступень. // К кольчецам спущусь и к усоногим <…>».
616
Спуску и подъему по «лестнице-чудеснице» посвящены две симметрично расположенные метаописательные главки в детской футурологической книжке Е. Я. Тараховской «Метрополитен» того же 1932 года. Они совершенно идентичны за вычетом лишь одной лексической позиции, принадлежащей наречиям «вниз» и «ввысь».
617
Два эти спуска – по лестнице живых существ и в Валгаллу гроба-погребка – сопоставлены в статье [Жолковский 2010]. Ср. еще в очерке 1922 г. «Гротеск»: «…Из расплавленной остроумием атмосферы горячечного, тесного, шумного, как улей, но всегда порядочного, сдержанно беснующегося гробик-подвала – в маленькие сенцы, заваленные шубами и шубками, где проходят последние объяснения, прямо в морозную ночь, на тихую Михайловскую площадь <…>» (III, 19–20).
618
Вероятный источник вдохновения Лафонтена – «Тимей» Платона, где рассказывается о деградации людей, те или иные пороки которых стали причиной их превращения в один из четырех видов животных: летающих, сухопутных, пресмыкающихся и живущих в воде. Согласно М. Б. Ямпольскому [2003], содержание этого рассказа как частный случай спуска по лестнице гармонии дает подтекстуальный ключ к прочтению «Я по лесенке приставной…» с его мотивом обрастания косматым руном (автор статьи не привлекает анализ солнцеборческой дионисийской темы «Сеновалов», осуществленный О. Роненом [2002: 87]). Освободиться же от диктата платоновской модели Мандельштаму помогла модель естественной истории, опосредованная Бергсоном, считает Ямпольский. (О биологическом изводе теории деградации см. [Ямпольский 1989: 69].) По мнению Б. М. Гаспарова, в строках «Ламарка»: «Он сказал: довольно полнозвучья, / Ты напрасно Моцарта любил», – говорится о «нисхождени[и] во времени к <…> эпохе, не знающей гармонии (“довольно полнозвучья”), то есть к предренессансному времени» [Гаспаров Б. 1994: 205]. Если это так, то, возможно, смысл вытесненного в подтекст понятия гармонии двоится, отсылая одновременно и к музыкальной реформе Ренессанса, и к платоновской «лестнице».
619
Ср. другую трактовку мандельштамовского «сближени[я] Ламарка и Лафонтена»: «…басенные звери-люди неожиданно изымаются из жанровой условности – им приписано значение художественной медиации между культурой, описывающей природу (животный мир), и самим объектом описания» [Тоддес 1999: 228–229].
620
См. [Игошева 2007: 86].
621
О взаимоналожении двух этих значений см. [Rауfield 1987: 90].
622
Одним из решающих факторов в победе дарвинистов над неоламаркистами послужила неоконченная книга Энгельса «Диалектика природы», русский перевод которой появился в 1925 г. «[Б]иологи показывали О. М. эту книгу и жаловались ему, как она осложнила им жизнь», – вспоминала Н. Я. Мандельштам [1970: 261]. Ср. [Гаспаров Б. 1994: 190].
623
Необходимо учесть, конечно, и общекультурную традицию уподобления человека саламандре по признаку несгораемости. Этот фон включает в себя и символичный эпизод из «Жизни Бенвенуто Челлини» (изданной в новом переводе Лозинского в 1931 г.), и апелляцию к нему в эпиграмме, оглашенной А. Н. Толстым в «Бродячей собаке» «[п]о поводу вспыхнувшей накануне брады Вячеслава Иванова <…>: | Огнем палил сердца доныне / И строя огнестолпный храм, / Был Саламандрою Челлини / И не сгорал ни разу сам. <…>» [Тименчик 2008: 156], и, например, фельетон Ильфа и Петрова «Горю – не сгораю» (опуб. в нач. апреля 1932).
624
О положительной семантике формальной слепоты в восприятии Мандельштама см. [Семенко 1997: 93].
625
Вариант вошел в 3-й том американского собрания: [Мандельштам 1969: 161].
626
Б. М. Гаспаров так резюмирует содержащиеся в «Путешествии в Армению» выкладки об этимологическом родстве армянских и русских корней: «…“глухота” в этой системе ценностей отождествляется с “пониманием”» [Гаспаров Б. 1994: 204]. См. также [Хазан 1992: 187–188].
627
Об этой аналогии см. также [Pollak 1995: 27]. Не столь явно глухота Бетховена уже обыгрывалась Мандельштамом в «Скрябине и христианстве», где Бетховен был противопоставлен Скрябину в какой-то мере по этому признаку – по аналогии с воском, которым Скрябин-Одиссей не пожелал оградить свой слух от пения сирен: «[г]олос – это личность. Фортепиано – это сирена. Разрыв Скрябина с голосом, его великое увлечение сиреной пианизма знаменует утрату христианского ощущения личности, музыкального “я есмь”. | Бессловесный, странно-немотствующий хор “Прометея” – все та же опасная, соблазнительная сирена. | Эта радость Бетховена <…> недоступна Скрябину» (II, 38–39).
628
«Дарвиновская идея отбора, – пишет Б. М. Гаспаров, – согласно которой сама внешняя среда выступала в роли регулирующего фактора эволюции, была для неоламаркистов неприемлема в силу своего механистического характера, не оставляющего никакого места саморазвитию организма <…>. В контексте общей антипозитивистской атмосферы, характерной для первой четверти ХХ века, <…> идея естественного отбора сополагалась с образом капиталистического рынка, выступающего (через банкротство одних предприятий и “выживание” других) в качестве регулятора экономического развития. Данная ассоциация придавала антидарвинизму дополнительную идеологическую энергию в атмосфере первых послереволюционных лет. <…> В этом контексте динамическая идея эволюции, выдвигавшая на первый план “преобразование” организма, осмыслялась как революционный, диалектический подход. С другой стороны, генетика, утверждавшая невозможность наследования приобретенных признаков, отождествлялась с образом механистического “объективизма”, характерного для науки капиталистической эпохи» [Гаспаров Б. 1994: 189–190].
629
Любопытно, что «Ламарк» написан 7–9 мая, практически в столетнюю годовщину со дня смерти Жоржа Кювье (он умер 13 мая 1832 г.).
630
См. [Pollak 1995: 30–31].
631
К теории Кювье не единожды апеллирует Е. П. Блаватская в своей «Тайной Доктрине» (1888), судя по всему, входившей в круг оккультного чтения Гумилева (см. комментарии к изд. [Гумилев 2005]). О теории Кювье как источнике своего вдохновения говорит Байрон в предисловии к мистерии «Каин» (1821).
632
См. запись в блоге Лейбова от 28.3.2013:
633
Энциклопедия приписывает Кювье радикализированный вариант его теории, который на самом деле постулировал его ученик А. Д. д’Орбиньи. Сам же Кювье, напротив, писал: «…я вовсе не думаю, что нужен был новый творческий акт для создания видов, ныне существующих; я говорю лишь, что их не было в этих местах и что они должны были туда прийти из других мест» (цит. по [Лункевич 1960: II, 293]).
634
Последующая фраза «В понятие природы врывается “Марсельеза”!» (II, 332) подсказывает, что провал сильнее наших сил между зоологическими классами противопоставлен преодолимому провалу между социальными классами. По поводу статей Мандельштама 1920‐х гг. и их ближайшего интеллектуального (опоязовского) контекста Е. А. Тоддес пишет: «Можно предполагать, идя и от ОПОЯЗа, и от Мандельштама, что представление о катастрофическом движении в противоположность постепенному [т. е. трактовка эволюции как череды революций. – Е.С.] в обоих случаях получало ценностное значение и активно формировало социальную ориентацию. В первом случае оно из специальной сферы литературной эволюции переносилось вовне, во втором – было естественным элементом изоморфизма “слова” и “культуры”» [Тоддес 1986: 92]. Между тем в конце 1920-х – начале 1930-х гг. и Мандельштаму, и формалистам пришлось адаптироваться к ситуации, «специфику которой можно, по-видимому, схематически свести к двум факторам: исчерпание разнонаправленных эволюционных возможностей периода “бури и натиска” и, с другой стороны, стабилизация инерционных форм как самой литературы, так и литературного быта в уже стабилизировавшихся и, казалось бы, несовместимых с ними новых социокультурных условиях (сделавших неактуальной мандельштамовскую культурологию). Если признак кастрофического динамизма, как предположено выше, создавал ценностный ореол новому социуму, то убывание динамизма в культуре и литературе последнего вызывало сомнение в их сегодняшней полноценности и отделяло их от недавнего исторического момента, когда социальные и культурные мутации взаимодействовали» [Там же: 96]. Можно предположить, что одним из вариантов рефлексии по поводу новой социокультурной обстановки стала вполне органичная для Мандельштама «смена знака» в отношении самой доктрины кастрофического динамизма, который теперь находит себе метафорическое соответствие не в теории Ламарка, постулирующей волевые эволюционные скачки, а в геологических слоях, концептуализированных Кювье. «[О]т культурологической “метонимии” начала 20-х годов» Мандельштам переходит «к противопоставлению слова культуре»: иерархизированная застывшая модель культуры преграждает путь живому слову. Эту модель обслуживают представители «старого вкуса» – Горнфельд и ему подобные [Там же: 97] (ср. [Гаспаров Б. 1993: 117]). По поводу фразы из мандельштамовской статьи «О переводах» (1929): «Монументальная серия классиков, всё та же работа на книжный шкаф – работа по существу бессмысленная. Это – пирамида во славу ложно понятой культуры» (III, 261), – Е. А. Тоддес пишет: «Символ “книжный шкаф” получает здесь значение, противоположное тому, какое он имел в мемуарной книге Мандельштама “Шум времени” <…>» [Тоддес 1986: 97]. Мысль об аналогии между этим символом и спуском по лестнице в «Ламарке» неоднократно высказывал, ссылаясь на давнее наблюдение Р. Д. Тименчика, Г. А. Левинтон (например, 4 декабря 2013 г. в ходе обсуждения моего доклада о «Ламарке» на Сермановских чтениях, а также 17 мая 2014 г. в рамках собственного доклада «Наброски к бестиарию Мандельштама» на конференции «Мир животных в мифологическом ракурсе», Москва, – см.
635
В частности, Б. М. Гаспаров возводит фигуру Ламарка у Мандельштама к шеллинговской концепции гения, чья миссия – преодоление разрыва между всеединством бессознательной природы и отъединением от природы познающего ее человека [Гаспаров Б. 1994: 202].
636
См. также [Видгоф 2006: 453–457].
637
Как видим, деградация в «Ламарке» не имеет ничего общего с дегуманизацией. Это дает основания внести коррективу в предложенную М. Б. Ямпольским интерпретацию обрастания косматым руном в стихах 1922 г. (см. выше): в действительности спуск по лестнице гармонии – это еще один акт искупительного самоумаления. Герой отказывается от подъема по лесенке гармонии («…подумал: зачем будить / Удлиненных звучаний рой, / В этой вечной склоке ловить / Эолийский чудесный строй») и, обрастая дисгармоническим косматым руном и чуть ли не чешуей, возвращается сквозь древний хаос вспять, к тем косарям, что спасают выпавших из гнезда птенцов, чтобы уж затем с этой ношей вернуться в родной звукоряд. Здесь уместно вспомнить пушкинского Овидия, которого дикари «Как мерзла быстрая река / И зимни вихри бушевали, / Пушистой кожей покрывали» (в статье «О природе слова» цитируется неточно: «прикрывали» (II, 76)). Коль скоро Овидий нес дунайским жителям эллинизм, пушистая кожа, покрывшая святого старика, для Мандельштама равнозначна его нисхождению до звериного состояния тех, кого он эллинизировал. Д. М. Сегал [1998: 531] омечает связь «Ламарка» с «Тристиями», I, 8 Овидия.
638
Сближение ламаркизма с яфетической теорией Марра в «Путешествии в Армению» и «Ламарке» глубоко проанализировано Б. М. Гаспаровым [1994: 195 сл.].
639
Ср. негибкость объекта смеха, по Бергсону. По другой версии, эпитет гибкий возвращает нас к образу протея (см. [Гаспаров Б. 1994: 200–201]).
640
По мнению Б. М. Гаспарова, образ красного дыханья корреспондирует с причиной приезда на Кавказ Б. С. Кузина – изучением кошенили, «мало кому известной насекомой твари», из которой «получается отличная карминная краска, если ее высушить и растереть в порошок» (II, 315). Кузин в ходе первой своей беседы с Мандельштамом, которого на тот момент он еще не успел отождествить со своим любимым поэтом, процитировал в связи со своей миссией «Послесловье» Пастернака: «И в крови моих мыслей и писем / Завелась кошениль. / Этот пурпур червца от меня независим. / Нет, не я вам печаль причинил» [Кузин, Мандельштам 1999: 162]. Гаспаров полагает, что последующее соседство в стихотворении Пастернака образов золы и маков отозвалось в «Путешествии в Армению» соединением маков и углей и что в целом красное дыханье представляет собой квинтэссенцию рекуррентного мотива «Путешествия в Армению» – «красного/огненного цвета как эманации “низших” произведений природы» [Гаспаров Б. 1994: 200]. Думается, и та среда, в которой завелась пастернаковская кошениль, и мандельштамовское определение маков с явным намеком на их кровавый цвет – яркие до хирургической боли, – и «одушевление» этих маков как несгораемых полоротых мотыльков (II, 317) только подкрепляют мою гипотезу о переходе от фотодыхания к дыхательной и кровеносной системам как означаемом красного дыханья. Возможно, полевые исследования Кузина в какой-то мере подтолкнули Мандельштама и к теме растительных красок у Данте. Наконец, образ хриплой охры в стихах об Армении перекликается со строками «Послесловья», также связывающими охру с затрудненным дыханием (по мнению Б. М. Гаспарова [1994: 200], у Пастернака «имеется в виду, по-видимому, так называемая “жженая охра” – темно-красного цвета»): «Это вечер из пыли лепился и, пышучи, / Целовал вас, задохшихся в охре, пыльцой».
641
«…никто лучше Сент-Огана не сумел показать последнего прыжка когда-то гибкого восемнадцатого века, который, как зверь с раздробленными лапами, упал на подмостки новой эры» (III, 118–119).
642
Ввиду, во-первых, этой соотнесенности Ламарка с библейским Исааком и, во-вторых, добровольного искупительного спуска по лестнице живых существ ради спасения таковых от теории катастроф вызывает несогласие гипотеза, будто Ламарк и его деяние проецируются на другого патриарха – Ноя, спасшего творение от потопа [Кацис 2002: 493–494].
643
«Старые глаза, / Вы, глупые глаза, не смейте плакать; / Я вырву вас, я брошу вас на землю <…>» (здесь и далее пер. А. Дружинина. Цит. по изд.: [Шекспир 1899]).
644
«Когда ты плакать хочешь обо мне, / Бери мои глаза».
645
«Покажи сюда. Если она пустая – очков не понадобится».
646
«Разве нельзя и без глаз различать дела людские? Гляди своими ушами».
647
«Нет у меня дороги, / И глаз не нужно мне. И с полным зреньем / Я спотыкался часто. Есть отрада / И в бедствии, и в недостатках наших». 3-й стих этой реплики издавна ставил в тупик комментаторов; см. ряд конъектур, приводимых Сэмюэлом Джонсоном:
648
«Толкнуть его / За ворота, и пусть он ищет носом / Дороги в Довер».
649
Позволю себе высказать осторожное допущение, что и строки «Наступает глухота паучья, / Здесь провал сильнее наших сил» реминисцирует тот эпизод «Короля Лира», где Эдгар, выдавая себя то за одного, то за другого простолюдина, внушает слепому отцу, что тот, пытаясь покончить с собой, спрыгнул с высокого утеса и остался цел. При этом Эдгар опасается, что уже само потрясение от воображаемого падения окажется для Глостера смертельным (ср. «провал сильнее наших сил»). Обращаясь к несостоявшемуся самоубийце, он восклицает: «Hadst thou been aught but gossamer, feathers, air, / So many fathom down precipitating, / Thou’dst shiver’d like an egg» (ср. «Наступает глухота паучья»). Другая возможная драматургическая аллюзия – дилогия Бьернсона «Свыше наших сил», в первой части которой показан крах священника-чудотворца (автор энциклопедической статьи о Бьернсоне П. С. Коган, знакомый Мандельштаму с университетской поры, отчасти прототип Мервиса в «Египетской марке» (II, 371), к слову сказать, умерший несколькими днями ранее возникновения «Ламарка», некстати каламбурил: «Своей высшей силы драматический талант Б. достигает в его пьесе “Свыше наших сил” <…>» [ЛЭ 1929: 42]).
650
Ср.: «…я люблю, когда Ламарк изволит гневаться <…> Самцы жвачных сшибаются лбами. У них еще нет рогов. | Но внутреннее ощущение, порожденное гневом, направляет к лобному отростку “флюиды”, способствующие образованию рогового и костяного вещества» (II, 332). Здесь, поясняет О. Ронен, «Lamarck’s “tonus” and “orgasm” interpreted in terms of Psycholamarckism» [Ronen 1983: 360–361]. Ср. также рассуждения в «Разговоре о Данте» о новой французской живописи, «удлиняющ[ей] тела лошадей, приближающихся к финишу на ипподроме» (II, 193). По поводу этих и многих других подобных мест Ю. И. Левин делает следующие ценнейшие обобщения: «…у Мандельштама была собственная нарурфилософская концепция. В основе ее лежит представление о мире, пронизанном различного рода силовыми полями, представляющими собой причину и источник всякого изменения и развития. Развитие происходит не “из себя”, а как бы в ответ на приглашение, как бы в оправдание ожидания, создаваемого соответствующим силовым полем (например, “среда для организма – приглашающая сила”, а не только оболочка). <…> Структурно схожими силовыми процессами обусловливается и появление рогов у жвачных, и развитие листа или зародыша, и процесс припоминания или восприятия живописи у человека. Мир, по существу, состоит не из предметов, а из событий (“растение… – это событие, происшествие, стрела…”), возникающих в точках пересечения или сгущения силовых полей. Поэтому в природе важны не ее материальные элементы, а структурные, динамические – “порывы, намерения, амплитудные колебания”. <…> Концепция Мандельштама отчасти соприкасается с бергсоновской, но élan vital у Мандельштама, с одной стороны, плюрализируется (не один “порыв”, а бесконечное множество их), а с другой стороны, мандельштамовское силовое поле является еще более всеобъемлющим, чем бергсоновский élan, захватывая и объекты, ничего общего с “творческой эволюцией” не имеющие: даже <…> “фигуры шахмат растут, когда попадают в лучевой фокус комбинации”. <…>» [Левин 1998: 143–144].
651
В основу главы положен доклад на Сермановских чтениях (3–5 дек. 2013, HUJI). Первая публикация: «Смуглые щеки Ламарка» // Корни, побеги, плоды…: Мандельштамовские дни в Воронеже: В 2 т. / Сост. П. Нерлер, А. Поморский, И. Сурат. – Т. 2. – М., 2015. – С. 432–447.
652
См.: [Хазан 1991: 306], [Живов 1992: 426–427].
653
В. И. Хазан [1991: 306] усматривает связь между образами плюсны и косых подошв (фрагмент «Аравийское месиво, крошево…»).
654
М. Л. Гаспаров [1996: 39] отмечает параллелизм между «бессильными птичьим копьем и птичьей плюсной» и образом хилой ласточки.
655
См.: [Левин 1979: 201], [Ронен 2002: 113].
656
Параллель отмечена С. Г. Шиндиным [1992].
657
Возможным графическим источником «приплюснутой улыбки» Ю. И. Левин [1979: 201] считает иллюстрации Георга Гросса или Йозефа Лады к роману Гашека. Н. Н. Мазур указала мне на то, что длинные хрупкие пальцы и ночной колпак (мужской эквивалент чепца) – шаблонные детали традиционных изображений умирающего ДонКихота, и обратила мое внимание на виньетку работы Тони Жоано, которая в изданиях «Дон Кихота» с его иллюстрациями помещается перед первой главой первой части романа; на этой виньетке, среди прочего, изображены (по отдельности) сова и копье (см.
658
О. Ронен видит здесь парафразу известного стиха Горация (из второй оды третьей книги) и анаграмму принятого усечения имени поэта: Dulce et decorum est pro patria mori (Hor.) [Ронен 2002: 113]. Этот стих переложил Пушкин, воспользовавшись, разумеется, именно словом отчизна – гетеронимом слова patria, – которое появляется у Мандельштама в описании черепа: «Красно и сладостно паденье за отчизну» [Пушкин 1962–1966: VI, 614]. Впрочем, парафраза у Мандельштама двойная, поскольку слова Горация частично совпадают с надписью на могиле неизвестного солдата в Париже: ICI REPOSE UN SOLDAT FRANÇAIS MORT POUR LA PATRIE.
659
У Венгерова явная путаница в датах. Ранее он сам упоминает о том, что отец Шекспира хлопотал о гербе в 1596 г. [Там же: 383]. В действительности герб был пожалован Джону Шекспиру 20 октября 1596 г. [McManaway 1990: 194].
660
См. [Брандес 1897: 142].
661
Вслед за Левиным здесь и далее «Гамлет» цитируется в переводе А. И. Кронеберга (1844).
662
Показательно, что в те же дни, что и четвертая редакция «Неизвестного солдата», пишется «Небо вечери в стену влюбилось…».
663
См. [Хазан 1992: 217; 219–220]. Ср. в ранних стихах соседство мотивов крестного пути и отчизны: «Легкий крест одиноких прогулок / Я покорно опять понесу. // И опять к равнодушной отчизне / Дикой уткой взовьется упрек <…>» («Воздух пасмурный влажен и гулок…», 1911).
664
Отметим походя фонетический и (квази)семантический параллелизм швов и Швейка.
665
См. [Кацис 1991a: 58].
666
В связи с общей темой могилы неизвестного солдата уместно напомнить, что библейский адам – это просто ‘человек’, именуемый так в соответствии с названием того материала, из которого он был создан с тем, чтоб его же и обрабатывать (Быт. 2: 5–7), и в который он был обречен вернуться после своей смерти (Быт. 3: 19), – с прахомземным (афар мин ха-адама). Он нарекает имена животным (Быт. 2: 19–20), а позднее – своей жене (Быт. 3: 20), но сам остается безымянным, – мотив, не совсем неизвестный русской литературе, ср. в «Деревне» (1910) Бунина: «Солдат-учитель <…> на вопросы никогда не отвечал сразу. | – Как величать-то тебя? – спросил его Кузьма, в первый раз зайдя в школу. | Солдат прищурился, подумал. | – Без имени и овца баран, – сказал он наконец, не спеша. – Но спрошу и я вас: Адам – это имя ай нет?» [Бунин 1965: 95]. По знаменитому преданию, широко представленному в христианской иконографии, на Лобном месте (Голгофе) покоится прах Адама, чей лоб (т. е. череп) был омыт кровью Христовой, тем самым очистившей от греха весь людской род (ср. безымянную манну [дождя]). Изображение черепа с перекрещенными костями – «Адамова голова» – в России было в употреблении и как масонский символ (в этом качестве Адамова голова упоминается, например, в «Войне и мире»: [Толстой 1951–1953: V, 68; 70]), и как эмблема разных воинских частей, начиная с войны 1812 г. против Наполеона и заканчивая – к моменту создания «Неизвестного солдата» – Гражданской войной (например, в униформе Корниловского ударного полка, в связи с чем генерал Краснов сообщает в своей эпопее, что на рукаве у солдат и унтер-офицеров «был нашит голубой полотняный щит, на котором белой масляной краской аляповато была нарисована Адамова голова и написано “Корниловец”» [Краснов 1921: III, 178]). Во время Первой мировой войны золотая либо серебряная «Адамова голова» использовалась в символике наград боевых летчиков, обозначая соответственно десятки и единицы сбитых вражеских самолетов. Возможно, на эти знаки отличия (в соотнесении с самими крестообразными самолетами – сбивающими и сбиваемыми [Левин 1979: 195], а также с черными крестами на крыльях немецких аэропланов) и намекают строки о том, «Как лесистые крестики метили / Океан или клин боевой».
667
Отмечено М. Л. Гаспаровым [1996: 37]. Ср. также в мемуаре Ахматовой о Мандельштаме: «В то же время [в 1937 г. – Е.С.] мы с ним одновременно читали “Улисса” Джойса. Он – в хорошем немецком переводе, я – в подлиннике. Несколько раз мы принимались говорить об “Улиссе”, но было уже не до книг» [Ахматова 1990: II, 172]. Чтение всей книги по-немецки, разумеется, не противоречит возможности предварительного знакомства с ее фрагментами по-русски в «Интернациональной литературе».
668
«Улисса» для «Интернациональной литературы» переводили, помимо Романовича, Л. Кислова, А. Елеонская, В. Топер, Н. Волжина, Е. Калашникова и Н. Дарузес. Общая редакция осуществлялась И. Кашкиным как руководителем Первого переводческого коллектива ССП.
669
Эта авторская ремарка Роненом при цитировании выпущена. – Е.С.
670
Далее все цитаты по этой публикации с указанием в скобках номера страницы.
671
В цитируемом переводе – Стефен.
672
Ср. предшествующий образ черепных швов, который, в частности, несет метапоэтическую нагрузку, восходя к черновикам «Путешествия в Армению»: «В хороших стихах слышно, как шьются черепные швы, набирает власти [и чувственной горечи] рот и [воздуха лобные пазухи, как изнашиваются аорты] хозяйничает океанской солью кровь» (II, 402). Отмечено: [Baines 1976: 213].
673
О содержащейся в этих словах аллюзии на «Венецианского купца» см. [Кацис 2002: 530].
674
Вызывает недоумение замечание В. М. Живова о том, что эта перекличка мертвецов имеет прямой хронологический порядок [Живов 1992: 425].
675
Ю. И. Левин [1998: 126] отмечает здесь каламбурную игру на двусмысленности слова одном (‘первом’ vs. ‘каком-то’).
676
Казалось бы, вынужденная оговорка «т. е. уже ранее названный Лейпциг» практически сводит на нет убедительность этого наблюдения. Между тем упоминание Лейпцига впервые появляется только в четвертой редакции «Неизвестного солдата», над которой Мандельштам работал 2–10 марта. Введя в текст «Лейпциг», Мандельштам, однако, не отбросил «битву народов», по-видимому, не отдавая себе отчета в их одинаковой референции. В то же время он опустил в этой редакции упоминание об Аустерлице и Египте. По какому-то недоразумению, проистекающему, вероятно, из малоизученности текстологии «Неизвестного солдата» в 1970-е годы, Ронен апеллирует к несуществующему тексту, комбинируя третью и четвертую редакции, – и этим только ослабляет свою аргументацию. В действительности четвертая редакция вообще не дает оснований для вывода насчет обратной хронологии битв. Зато в третьей редакции, датируемой 3 марта, перечисление наполеоновских битв и походов выстраивается в ничем не нарушаемый обратный временной порядок: «Там лежит Ватерлоо – поле новое, / Там от битвы народов светло: / Свет опальный – луч наполеоновый / Треугольным летит журавлем. / Глубоко в черномраморной устрице / Аустерлица забыт огонек, / Смертоносная ласточка шустрится, / Вязнет чумный Египта песок».
677
Ронен цитирует Фламмариона по изданию 1894 г., меняя исходный порядок двух отстоящих одна от другой фраз. В издании [Фламмарион 1893], которым пользуюсь я, они находятся соответственно на с. 83 и 82–83.
678
В оригинале: «…to my shame, I see / The imminent death of twenty thousand men, / That, for a fantasy and trick of fame, / Go to their graves like beds, fight for a plot / Whereon the numbers cannot try the cause, / Which is not tomb enough and continent / To hide the slain».
679
Характерен и журнальный контекст публикации 9-го эпизода «Улисса». Непосредственно перед ним, на с. 52, напечатаны стихи Иоганнеса Бехера в переводах Владимира Нейштадта – давнего знакомого Мандельштама по Московскому лингвистическому кружку, которого он ценил как переводчика. У Бехера читаем: «…Но если завтра в назначенный срок / Газом запахнет вдруг ветерок, / Выйдет приказ убивать и калечить, – / Знай: на плечах у тебя номерок / (Голову, помнишь, ты сдал в гардероб), / И размышлять тебе поздно и нечем». А сразу после 9-го эпизода, на с. 77, помещена подборка автоэпитафий из «Антологии Спун Ривер» Эдгара Ли Мастерса в переводе Кашкина. Открывается она вступительным стихотворением ко всей книге («Холм»), в котором есть и такая строфа: «Сюда принесли мертвых сыновей с войны / И дочерей, которых раздавила жизнь, / И сирот, оставшихся после их смерти. / Все, все спят, спят, спят на холме».
680
В основу главы положен доклад на ХХ Лотмановских чтениях (21–23 дек. 2012, ЕУСПб, тема конференции – «Слово и изображение»). Первая публикация: К вопросу о визуальных подтекстах «Стихов о неизвестном солдате» // НЛО, 125. 1’2014. – С. 205–217.
681
См. [Иваск 1969: X–XI], [Мандельштам 1969: 404–411], [Топоров 1979: 307], [Мандельштам Н. 1990: 96–97] и др.
682
См. [Проскурина 2001: 206]. См. также [Добрицын 1990] (на роль еще одного первоочередного источника Мандельштама здесь выдвигаются идеи С. Н. Трубецкого), [Terras 2001: 53–54; 57; 59] (подчеркивая исключительное воздействие творчества Иванова на образный комплекс аномального солнца у Мандельштама, В. И. Террас все же полагает, что этот комплекс не вобрал в себя философию и мировоззрение, которыми фундирован его ивановский прототип; ниже я постараюсь доказать обратное).
683
Заглавный герой трагедии «Прометей» (1915) рассказывает: «Сама в перстах моих слагалась глина / В обличья стройные моих детей, / Когда сошел я в пахнущие гарью / Удолия, где прах титанов тлел, / Младенца Диониса растерзавших / И в плоть свою приявших плоть его».
684
Ср. отголосок этого космогонического сюжета в черновиках «Путешествия в Армению»: «Так глухота и неблагодарность, завещанная нам от титанов […]» (II, 395).
685
См. [Иванов 1923: 157; 165], [Иванов 1971–1987: III, 706]. Эта медиативная роль Орфея распространяется и на пчел, которым Платон уподобляет поэтов. Их соты и мед, в свой черед, выполняют транзитивную функцию по отношению, с одной стороны, к ночному солнцу как его метонимии, а с другой – к поэзии и, шире, искусству. О символах пчелы и меда в русском символизме см. [Ханзен-Лёве 2003: 539–549].
686
Герой Апулея Луций так описывает свое посвящение в таинства Изиды: «Достиг я пределов смерти, переступил порог Прозерпины и снова вернулся, пройдя все стихии, в полночь видел я солнце в сияющем блеске <…>» [Апулей 1931: 343–444]. С этим местом Л. Силард связывает мотив ночного солнца у Мандельштама [Силард 2008: 173]. Связь особенно убедительна ввиду того, что входящая в состав «Метаморфоз» сказка о Психее является одним из основных подтекстов «Когда Психея-жизнь…» – см.: [Полякова 1997: 154], [Гаспаров М. 2001: 762], [Сошкин 2004: 91] (= [Сошкин 2005: 21]), [Ковалева 2005].
687
См. [Иванов 1971–1987: III, 706], [Проскурина 2001: 208–209].
688
См. [Иванов 1916: 222].
689
См.: «…восхождение по преимуществу человечно. Его одушевляют воля и алчба невозможного. Из избытка своей безграничности Божественное пожелало невозможного. И невозможное совершилось: Божественное забыло себя и опозналось в мире граней. Кто выведет его из граней? Тот же извечный Эрос Невозможного. Божественнейшее наследие и печаль человеческого духа» [Иванов 1971–1987: I, 825]. Как явствует из этого пассажа, в общем случае самопожертвование бога представляет собой нисхождение, а самопожертвование смертного – восхождение. Соответственно, для последнего «[в]осхождение – разрыв и разлука; нисхождение – возврат и благовестие победы. <…>» [826]. Тем не менее Иванов выделяет особый тип художника, чье нисхождение гибельно, ибо оно не ограничивается возвращением к земному, но проникает в самую глубину первозданного хаоса: «Но не всегда нисхождение – милость мира, благодатный возврат и радостное воссоединение. Есть нисхождение, как разрыв. Есть “упоение на краю мрачной бездны”: его знал Пушкин в миги своих запредельных проникновений…» [828]. Такое гибельное нисхождение Иванов считает истинно дионисийским, и это ведет к существенному усложнению всей мистико-теургической модели: «В этих недрах чреватой ночи, где гнездятся глубинные корни пола, нет разлуки пола. Если мужественно восхождение, и нисхождение отвечает началу женскому, если там лучится Аполлон и здесь улыбается Афродита, – то хаотическая сфера – область двуполого, мужеженского Диониса. В ней становление соединяет оба пола ощупью темных зачатий» [829]. Соответственно, художник дионисийского склада подобен семени, которое «не прорастет, если не умрет» [824], а творческий акт предстает в виде четырехфазного процесса, в котором как восхождение, так и нисхождение состоит из двух последовательных духовных преображений: «Всякое переживание эстетического порядка исторгает дух из граней личного. Восторг восхождения утверждает сверхличное. Нисхождение, как принцип художественного вдохновения (по словоупотреблению Пушкина), обращает дух ко внеличному. Хаотическое, раскрывающееся в психологической категории исступления, – безлично. Оно окончательно упраздняет все грани» [829].
690
«Восхождение – символ того трагического, которое начинается, когда один из участвующих в хороводе Дионисовом выделяется из дифирамбического сонма. Из безличной стихии оргийного дифирамба подъемлется возвышенный образ трагического героя, выявляясь в своей личной особенности, – героя, осужденного на гибель за это свое выделение и обличие. Ибо жертвенным служением изначала был дифирамб, и выступающий на середину круга – жертва» [Иванов 1971–1987: I, 825].
691
В задекларированном согласии с концепцией Ницше: «“Когда могущество становится милостивым и нисходит в зримое, – Красотой зову я такое нисхождение”, – говорит Заратустра» [Иванов 1971–1987: I, 826].
692
Экспликация этой модели осуществляется в поздних текстах Иванова (см. [Там же: III, 668] и др.), но – в согласии с давними тезисами, сформулированными в ряде теоретических текстов 1910-х гг.
693
См. [Иванов 1905: 206], [Иванов 1905a: 147]. Ср. растерзание Орфея, воспроизводящее растерзание Диониса, но исходящее от самого Диониса в лице его представительниц.
694
Ср. еще: «Правое богоборство Израиля исторгает благословление» [Иванов 1971–1987: I, 824]. О присущей самому Иванову интенции к «бегу в противоположное» (по формуле Гераклита) см. [Дешарт 1971: 30].
695
По-видимому, в подтексте, с которым тут спорит Мандельштам, – утверждение из статьи Иванова «Символика эстетических Начал» (= «О нисхождении», 1905) о том, что в подвиге восхождения – «любовь к страданию, свободное самоутверждение страдания» [Иванов 1971–1987: I, 824].
696
См. [Freidin 1987: 69–70], [Гаспаров М. 2001: 841].
697
А не Святая Земля и не с момента Рождества Христова, как подсказывает обыденная логика.
698
Мандельштам придает новый смысл формуле песнопения смертию смерть поправ, перенося ее из пасхального контекста («Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав») в контекст евангельской символики зерна.
699
О двух концепциях инвертированной исторической каузальности, одна из которых принадлежит Иванову, а другая – Мандельштаму, см. [Венцлова 1997: 108].
700
Ср. замечание Р. Д. Тименчика по поводу «свидетельств[а] Г. Адамовича о разговоре летом 1921, в котором Гумилев переоценивал былое увлечение Анненским»: «…в этом Гумилев следовал убеждениям и вкусу Учителя: “…для меня нет большего удовольствия, как увидеть иллюзорность вчерашнего верования”» [Тименчик 1981b: 185].
701
Эта символика (см. цикл «Солнце-сердце» в кн. «Cor ardens») связана с сердцем Диониса, спасенным от титанов как залог его возрождения. М. М. Бахтин полагал, что в образе солнца-сердца Иванов соединил античные коннотации солнца с мотивом кровоточащего сердца в иконографии Христа [Бахтин 1979: 380]. На это возражает В. Проскурина, показывая, что оба компонента отсылают и к античной, и к христианской традиции [Проскурина 2001: 207–208]. Среди других источников образа – Sonnenherz Гейне [Ронен 2003: 78]. Из ближайших предшественников Мандельштама образ встречается также у Блока: «Но бредет за дальним полюсом / Солнце сердца моего» («Настигнутый метелью», 1907). Эти строки цитирует А. Г. Мец в комментарии к «Скрябину и христианству» (II, 490).
702
См., напр., [Гаспаров, Ронен 2003]. Впрочем, «державинский некролог Вяземского и пушкинский Владимира Одоевского начинаются совершенно одинаково: “Угасло одно из светил поэзии нашей, лучезарнейшее ее светило!” (1816) и “Солнце русской поэзии закатилось!” (1837)» [Перельмутер 1995: 194].
703
См. комментарий А. Г. Меца: II, 490. Вероятно, использованный Одоевским образ растерзанного сердца способствовал включению Пушкина в дионисийско-орфическую парадигму. Так, в стихотворении «В Петербурге мы сойдемся снова…» (1920) о возобновленной постановке оперы «Орфей и Эвридика» образ похороненного солнца относится, в частности, к Пушкину и театральной атмосфере, запечатленной в «Евгении Онегине» [Malmstad 1977] (обзор литературы вопроса см. [Там же: 194]).
704
«Конспиративное солнце нового Аустерлица» О. Ронен интерпретирует как производный образ от расхожей сентенции «Слава – солнце мертвых», которая впоследствии отозвалась в «Стихах о неизвестном солдате» [Ронен 2007: 258–259]. Н. Я. Мандельштам [1990: 97] полагала, что ночное и черное солнца друг другу тождественны, тогда как вчерашнее солнце восходит исключительно к реакциям современников Пушкина на его смерть.
705
В воспроизведении Тарановского, как и в американском собрании сочинений, причастие относится к трагедии: «образ поздней греческой трагедии, созданной Еврипидом». – Е.С.
706
Ночное солнце служит Иванову одним из опорных символов. Характерная особенность символа черного солнца – множественное число: черные солнца. Черное солнце может быть как синонимично ночному (ср.: «Когда взмывает дух в надмирные высоты / Сбирать полночный мед в садах Невест-богинь, – / Мы, пчелы черных солнц, несли в скупые соты / Желчь луга – омег и полынь». – «Vitiato melle cicuta», кн. «Cor ardens»), так, в принципе, и антиномично ему – но именно в принципе, то есть не будучи как-либо с ним соотнесено (ср. образ черных солнц как символ разрушительных стихийных сил: «Любовь позволяла Чурлянису бестрепетно созерцать самый хаос невозмущенною, стройной душой. Но громада созерцаемого все же была слишком громадна, она надвигалась на душу грозной стихией, которой не в силах пронизать и опрозрачнить самый прозорливый дух. Казалось, вот-вот она готова была рухнуть, и уже обрушивались на душу ее осколки <…>. Вставали черные солнца; колокол в облаках бурной мглы бил набат над разъяренной пучиной. <…>» [Иванов 1916: 331]). Наконец, оба эти символа могут быть синтезированы в третьем. Так, в финале трагедии «Тантал» (1905) заглавный герой «обеими руками <…> поддерживает нижний край огромной потухшей сферы» и говорит самому себе: «…Тантал, где твое солнце? где?.. / Темной окаменев громадой, / повисло тяжко, / тебя подавив, твое темное солнце… / И рухнуть грозит / на тебя твое мертвое солнце…». Трагедия заканчивается словами, определяющими отношения двух солнц – темного и светлого – как эстафетные: «Из солнца – солнце. Горе солнцу! Бог богов / родил. Померк родивший… <…>» [Иванов 1971–1987: II, 73].
707
См.: [Тарановский 2000: 101], [Мандельштам Н. 1997: 170; 189].
708
Где интересующее нас место совпадает по смыслу с процитированной русской версией: [Taranovsky 1976: 151–152]. Так же обстоит дело и с сербским изданием книги – см. [Taranovski 1982: 138].
709
По догадке Р. Д. Тименчика, отождествление Федры с Россией могло быть подсказано часто звучавшей в применении к России пословицей «Велика Федора, да дура».
710
«Ты чванишься, что в пищу не идет / Тебе ничто дышавшее, и плутни / Орфеевым снабдил ты ярлыком» (пер. И. Анненского). Здесь и далее цитаты из «Ипполита» по [Еврипид 1999: I, 168–230]. О возможных отголосках древнегреческого религиозного вегетарианства в «Черепахе» см. [Левинтон 1977: 168].
711
О воздействии этого предисловия на Мандельштама см. [Freidin 1987: 74–75].
712
В этой связи нужно учесть и найденный О. А. Лекмановым [2000: 100–101] брюсовский подтекст хоров из первого стихотворения «Тристий» – стихотворение «Орфей и Эвридика» (1903–1904) (получившее, как отмечает Лекманов, высокую оценку Мандельштама в статье «Буря и натиск», 1923): «– Мы боимся, мы не смеем / Горю царскому помочь» ← «Я не смею, я не смею, / Мой супруг, мой друг, мой брат!»
713
См. также [Тарановский 2000: 100], [Terras 2001: 48–49].
714
См. [Эткинд 1995: 56], [Cavanagh 1995: 140]. Впрочем, Расин приписывает солнцу только свойство краснеть, а не покрываться черными пятнами: «Noble et brillant auteur d’une triste famille, / Toi dont ma mère osait se vanter d’être fille, / Qui peut-être rougis du trouble où tu me vois <…>»; пер. М. Донского: «О лучезарное, державное светило, / Чьей дочерью себя надменно объявила / Мать Федры! За меня краснеешь ты сейчас?» Ср. у Мандельштама атрибуцию этого глагола царской лестницы ступеням, которые покраснели от стыда.
715
По мнению М. Вайскопфа [2002а: 211], к образу двух солнц из «Вакханок» восходит сюжет стихотворения Шевырева «Сон».
716
На этих двух разновидностях стыда задерживается Анненский: «… пока женщины обмениваются криками ужаса, Федра мало-помалу приходит в себя, чтобы затем с мрачным спокойствием начать свой превосходный монолог. Да, стыд не у всех людей одинаков: есть даже два стыда, совершенно различных, только, к несчастью, для людей эти два стыда заходят один в другой и потому в небрежной речи носят одинаковое имя. | Первый стыд – это стыд гинекея, тот самый, наружный, подленький стыд, которому только что заплатили дань все эти темные души своим ужасом перед разоблаченным чувством, второй – это стыд, который боится порока, т. е. гнева всевидящих богов. | “Я знаю, – говорит Федра, – чем различаются два стыда, и с той минуты, как я это узнала, мне уже никаким ядом не вытравить разделяющей их грани и не вернуться к прежнему безразличию”» [Анненский 1979: 388].
717
Здесь эта связь устанавливается благодаря аллюзии на пушкинское описание картины Брюллова «Последний день Помпеи». Помимо самой тематики («новый встает Геркуланум»), здесь бросается в глаза тройное лексическое совпадение: «…театров широкие зевы / Возвращают толпу площадям <…>» ← «Везувий зев открыл <…> пламя / Широко развилось <…> Народ <…> толпами <…> бежит <…>» (подробнее см. в гл. I). Ср., однако, текстуальные совпадения с описанием похорон Александра III в «Шуме времени» (хотя в этом случае речь идет о Петербурге): «Мрачные толпы народа на улицах были моим первым сознательным и ярким впечатлением. Мне было ровно три года. Год был девяносто четвертый, меня взяли из Павловска в Петербург, собравшись поглядеть на похороны Александра III. На Невском, где-то против Николаевской сняли комнату в меблированном доме, в четвертом этаже. Еще накануне вечером я взобрался на подоконник, вижу: улица черна народом, спрашиваю: “Когда же они поедут?” – Говорят: “Завтра”. Особенно меня поразило, что все эти толпы ночь напролет проводили на улице» (II, 212).
718
Здесь вчерашнее солнце на черных носилках непосредственно отождествимо с Пушкиным. Так рассудила Анна Ахматова (после того как познакомилась с уцелевшими фрагментами «Скрябина и христианства»), при этом добавив по поводу стихотворения «Кассандре»: «Сияло солнце Александра | Сто лет тому назад, сияло всем | (декабрь 1917 г.), – | конечно, тоже Пушкин. <…>» [Ахматова 1990: II, 162]. Если принять эту догадку (в частности, вслед за Е. А. Тоддесом [1991: 35; 37–38], веско ее аргументирующим), то под вчерашним солнцем понимается столетнее солнце, ведь «сто лет тому назад» – это и есть «вчера» в масштабах столетнего цикла (ср. [Тоддес 1994а: 76]). В связи с солнцем на черных носилках М. Л. Гаспаров и О. Ронен упоминают оперу Матюшина на либретто Крученых «Победа над солнцем» (1913) с ее «темой борьбы с Пушкиным как солнцем русской поэзии» и, в частности, ремаркой: «Входят несущие солнце – сбились так что солнца не видно» [Гаспаров, Ронен 2003]. Ср. в «Победе над солнцем» аллюзию на «Вакхическую песню» («Разбитое солнце… / Здравствует тьма!» ← «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»), отмеченную комментатором Крученых [2001: 447]. Ср. также следом за этим анаграмму имени Пушкина в обмене репликами: «Один: Солнце железного века умерло! Пушки сломаны пали и шины гнутся как воск перед взорами! Разговорщик: что?.. Надеящийся на огонь пушки еще сегодня будет сварен с кашей!» [Там же: 396–397]. Альтернативная референция вчерашнего солнца на черных носилках (Агамемнон) предложена В. И. Хазаном [1992: 246]; ср. [Там же: 132–133].
719
Как отмечает Тарановский в связи с «Черепахой», «Платоновскую метафору о поэтах-пчелах использовал и Вячеслав Иванов, осложнив ее еще орфическим символом черных солнц» [Тарановский 2000: 126]. Имеется в виду ивановский образ «пчёлы черных солнц» (об альтернативных источниках мандельштамовской «пчелиной» символики см. [Силард 1977: 90–91]). Между тем в «Сестры – тяжесть и нежность…» (далее – СТН) и в «Возьми на радость из моих ладоней…» мы встречаем не просто образ пчел-поэтов, но и его пересечение с мотивом похорон солнца, несомненно восходящее к Иванову. Менее заметно, что в цитатном слое СТН важнейшее место занимает тот же самый комбинированный подтекст, который эксплицирован в первом стихотворении «Тристий», – «Ипполит» Еврипида в экспериментальном переводе Анненского и «Федра» Расина. Если предположить, что одно из означаемых солнца на черных носилках – Ипполит, то слова «Легче камень поднять, чем имя твое повторить» (предложенные Мандельштаму Гумилевым взамен других: «Легче камень поднять, чем вымолвить слово: любить», – о которых Гумилев отозвался: «сказано по-африкански» [Лукницкий 1991: 111]) могут быть атрибутированы Федре, которая в обеих трагедиях, уже решившись открыться кормилице, не в силах заставить себя вымолвить имя Ипполита и вынуждает сделать это свою конфидентку, – «Ипполит»: «Кормилица (упавшим голосом). Что слышу я? Ты любишь? Но кого ж? Федра (тихо). Не знаю кто, но сын он амазонки. Кормилица. Как… Ипполит?.. Федра. Он назван, но не мной»; «Федра»: «Œnone. Aimez-vous? Phèdre. Aimez-vous? De l’amour j’ai toutes les fureurs. Œnone. Pour qui? Phèdre. Pour qui? Tu vas ouïr le comble des horreurs… / J’aime… À ce nom fatal, je tremble, je frissonne. / J’aime… Œnone. J’aime… Qui? Phèdre. J’aime… Qui? Tu connais ce fils de l’Amazone, / Ce prince si longtemps par moi-même opprimé… Œnone. Hippolyte? Grands dieux! Phèdre. Hippolyte? Grands dieux! C’est toi qui l’as nommé!» (I, III) (пер. М. Донского: «Энона. Ты любишь? Федра. Лютая меня терзает страсть! Энона. К кому? Федра. Узнаешь все. Дрожа и негодуя, / Услышишь ты… Люблю… Не вымолвить… Люблю я… Энона. Кто он? Федра. Он – тот, чей был так нестерпим мне вид, – / Сын Амазонки… Энона. Как!.. О боги! Ипполит? Федра. Ты имя назвала») (ср. [Цивьян Т. 1974: 111], [Хазан 1992: 184–185]). Из других параллелей между СТН и «Ипполитом» прежде всего следует назвать ремарки Анненского с упоминаниями носилок: «На носилках труп Федры», «…толпа несет ложе с Ипполитом, у которого закрыты глаза. Рабы несут его тяжело и осторожно. Стоны с носилок». Подобные ремарки встречаются и в других переводах Анненского из Еврипида – в «Алькесте», «Андромахе», «Умоляющих», «Электре», «Финикиянках», «Вакханках», но Ипполит – единственный во всем корпусе этих переводов еще живой персонаж, возлежащий на носилках, причем в этом положении он, прежде чем умереть, произносит монолог и долго беседует с другими действующими лицами (ср. восхищение Мандельштама (в рецензии 1913 г.) ремарками Анненского в его оригинальной пьесе (III, 91)). Присутствуют неназванные похоронные носилки и в финале «– Как этих покрывал и этого убора…»: «Мы же, песнью похоронной / Провожая мертвых в дом, / Страсти дикой и бессонной / Солнце черное уймем». Эти слова подразумевают, что мертвые отдаляются от остающегося на месте хора, сопутствуемые его песней (иначе было бы сказано «с песней»), – что возможно только в том случае, если живые, не входящие в состав хора, уносят мертвых на носилках. (По замечанию С. Т. Золяна, «мертвых провожают не в дом, а из дома. Тем самым <…> возникает оксюморонный (амбивалентный) образ дома – обиталища то ли живых, то ли мертвых» [Золян, Лотман 2012: 146]. Впрочем, этот парадокс, возможно, нейтрализуется благодаря подтексту, предложенному М. Л. Гаспаровым и О. Роненом для кипарисных носилок из «Веницейской жизни, мрачной и бесплодной…» [Гаспаров, Ронен 2002: 200], который вполне может быть распространен и на интересующее нас место в стихах о Федре; речь идет о следующем фрагменте очерка Блока «Маски на улице» <1913>: «…двое <…> с закрытыми лицами волокут длинную черную двуколку. <…> Двуколка имеет форму человеческого тела; на трех обручах натянута толстая черная ткань <…>. | “Братья милосердия” – Misericordia – это они – быстро вкатывают свою повозку на помост перед домом <…>. Так же быстро распахиваются ворота, и все видение скрывается в <…> большой комнате-сарае <…>. <…> Ворота закрыты, дом как дом <…>. Должно быть, там сейчас вынимают, раздевают – мертвеца» [Блок 1960–1963: V, 389]). С пьесой Еврипида СТН сближает и общий образный колорит. Даже название трагедии, которое было в ходу в античные времена и которым пользуется Анненский, – «Ипполит венчающий», – могло иметь актуальное значение для Мандельштама. Оно основывалось на речах Ипполита, обращенных к статуе Артемиды: «Прими венок, царица: в заповедном / Лугу, цветы срывая, для тебя / Я вил его…» (ср.: «Розы <…> в двойные венки заплела»). Далее Ипполит упоминает пчел, а также аллегорическую фигуру – Стыдливость, которой родственны и созвучны тоже персонифицированные сестры тяжесть и нежность: «…Там только пчел весною / Кружится рой средь девственной травы. / Его росой поит сама Стыдливость». Еще одна параллель к тяжести и нежности (семантическая, ритмическая и отчасти грамматическая) содержится в одной из партий хора, причем тоже при соседстве пчелы: «Она [Киприда], средь блистаний и громов / Склонивши на брачное ложе / Грядущую Вакхову матерь, / В объятия кинула смерти, / О, страшная сила и сладость! / Пчела с ее медом и жалом!»
720
Ср. [Freidin 1987: 97].
721
О связи инцеста с инфантицидом в поэтической мифологии Мандельштама см. [Сегал 1998: 617]. О более широком контексте сближения двух мотивов – черного солнца и обратного хода времени – см. [Ханзен-Лёве 2005: 319].
722
См. [Фрейдин Г. 1991: 24–26].
723
Исключение составляет любительская книга Н. Ваймана [2013], где черное / ночное солнце, а также иные светила (зеленая звезда, черный Веспер) более или менее прямо отождествлены с умирающими городами. Кроме того, М. Л. Гаспаров и О. Ронен [2002: 198] отметили аналогию между черным Веспером в «Веницейской жизни, мрачной и бесплодной…» и черным или ночным солнцем в других стихотворениях 1916–1920 гг., не касаясь, впрочем, в этой связи мотива умирания Венеции. В «Веницейской жизни» хотелось бы обратить внимание на мотив ковчега – убежища от катастрофы: «И горят, горят в корзинах свечи, / Словно голубь залетел в ковчег». В подтексте этих строк – «Венеция» (1913) Гумилева: «Верно, скрывают колдуний / Завесы черных гондол / Там, где огни на лагуне – / Тысячи огненных пчел» (ср. Завесы черных гондол → Черным бархатомзавешенная плаха; вместе с тем «[в]озможно, что этот черный бархат восходит к “черному бархату” и “бархатной ночи” из венецианского цикла “Итальянских стихов” Блока» [Полякова 1997: 180]; примечательно, что черный бархат из другого стихотворения 1920 г. – «В Петербурге мы сойдемся снова…» – восходит к другому тексту Гумилева: «В черном бархате советской ночи <…> Всё поют блаженных жен родные очи <…>» ← «Лишь черный бархат, на котором / Забыт сияющий алмаз, / Сумею я сравнить со взором / Ее почти поющих глаз» [Левинтон 1994: 34]). Но сравнение залетевшего в ковчег голубя со свечой, множественность таких свечей и клаузула следующего стиха «Веницейской жизни» – вече, вносящая неожиданный в венецианском контексте древнерусский элемент, в совокупности подсказывают ассоциацию с историей сожжения Искоростеня (ср. мотив возвращения голубей, общий для Книги Бытия и «Повести временных лет»).
724
Апеллируя к этим событиям, В. В. Мусатов опирается на известную работу Д. М. Сегала «“Сумерки свободы”: О некоторых темах русской ежедневной печати 1917–1918 гг.» (1973) (см. [Сегал 2006: 512–516]). – Е.С.
725
На самом деле это произошло в июле 586 г. до н. э. – Е.С.
726
По свидетельству Н. Я. Мандельштам, «мать Мандельштама умерла, узнав, что ее муж завел себе любовницу» [Мандельштам Н. 1990: 175] (медицинскую причину ее смерти – «склероз мозговых сосудов» – Н. Я. упоминает в письме к Б. С. Кузину от 25.8.1938 [Кузин, Мандельштам 1999: 542]). Возможно, это обстоятельство в какой-то мере повлияло на возникновение в поминальных стихах композиционной оси ‘мать – мачеха’.
727
Принципиально иное истолкование предложил Д. М. Сегал: «Где это солнце желтое? Явно не в Ерусалиме. Возможно, эта ситуация разрешится, если мы вспомним, что в то время, когда умерла его мать, Мандельштам, вместе с братьями, отдыхал в Крыму, откуда он 25 июля 1916 года срочно уехал в Петроград по вызову отца <…>. Но в Петрограде в эти летние месяцы ночь еще очень коротка, там светит желтое солнце, в противоположность югу, Крыму, а если продолжить линию на юг, то и Иерусалиму, где ночь наступает мгновенно и гораздо раньше, чем на севере. Итак – в Ерусалиме уже ночь – свершилось непоправимое, а в Петербурге – еще бледные сумерки (“желтое солнце”). Это желтое солнце страшнее, чем черное солнце Иерусалима, ибо оно связано со всем тем комплексом хаоса, непонимания, несвободы, опасности, который Мандельштам ассоциирует со своим еврейским детством и который теперь представляется ему как нечто, лишившее его матери. Черное солнце Ерусалима – это его солнце, солнце великой и роковой библейской истории, желтое солнце – это признак бытового, петроградского еврейства. | Ритуал современного иудаизма, оставшийся поэтом непонятым, представляется ему как нечто недолжное, как посягательство на него, на его мать. <…> стихотворение кончается выходом из царства страшного желтого солнца – бытового еврейско-русского Петербурга, из царства семьи и семейственности. Поэт просыпается в колыбели своего еврейства, но осиянный черным солнцем Иерусалима – Иерусалима Иеремии, Иерусалима Библии, равно как и Иерусалима Евангелия. Поэт осознает свое еврейство и принимает его как пророчество» [Сегал 1998: 274–275].
728
См. [Ронен 2002: 103]. Ср. в очерке 1924 г. «Прибой у гроба», где Мандельштам изобразил мертвого Ленина как ночное солнце в гробу – уже перегоревший источник еще актуального электрического света, озаряющего ночное здание. Весь очерк строится на внятной отсылке к проекту электрификации всей страны: «Университет на Моховой гудит, как пчельник глухой ночью. <…> Революция, ты сжилась с очередями. <…> вот самая великая твоя очередь, вот последняя твоя очередь к ночному солнцу, к ночному гробу… <…> Высокое белое здание расплавлено электрическим светом. <…> Там, в электрическом пожаре, окруженный елками, омываемый вечно-свежими волнами толпы, лежит он, перегоревший, чей лоб был воспален еще три дня назад… <…> И мертвый – он самый живой, омытый жизнью, жизнью остудивший свой воспаленный лоб» (III, 70–71).
729
См. Мф. 24: 2; Мк. 13: 2; Лк. 21: 6.
730
Как известно, это стихотворение содержит реминисценции «Пира во время чумы» (см. гл. I). Ср. знаменательное для нашей темы название пушкинского источника – «The City of the Plague».
731
Более широкий контекст мотива умирающего Петербурга в поэзии Мандельштама и его предполагаемые истоки в творчестве Эдгара По проанализированы Д. М. Сегалом [1998: 416 сл.].
732
Кроме того, мотив солнца, пребывающего в негативной фазе, неявно присутствует в «Возьми на радость из моих ладоней…» (1920) и в оставшихся за пределами «Тристий» «Мадригале» (1916), «Кто знает? Может быть, не хватит мне свечи…» (1917) и «Телефоне» (1918). В «Кто знает?..» упоминается разрушенная Москва. Ср. также в «1 января 1924» два сонных яблока как возможную отсылку к двойному солнцу Рима у Данте – солнцу императора и солнцу папы, одно из которых погасило другое (Чист. XVI, 106–108) [Ronen 1983: 242]. В свете этой догадки определение глаз-яблок – сонные – прочитывается как вариант постоянного определения ночные.
733
Любопытно, что в «надтексте» СТН (окказиональный термин Тарановского [2000: 340]) – стихотворении Б. Кузина «Вдохновеньем творца и натугой поденщика бычьей…» (1942) – утверждается нечто прямо противоположное контекстуальной семантике аномального солнца у Мандельштама: «Человек умирает, обычай сменяет обычай. / Города остаются и здания вечно живут».
734
«Розу и Крест» я причисляю к подтекстам СТН с оглядкой на два других, найденных О. Роненом. Первый из них – «Розы» Жуковского. Первая и последняя строки СТН словно бы заплетены в «двойной венок» строками Жуковского: «Радость и скорбь на земле знаменуют одно: их в единый / Свежий сплетает венок Промысел тайной рукой». Второй из них – заключительное стихотворение цикла Блока «Кармен» (1914) – «Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь…». Здесь начальный стих СТН находит себе соответствие в стихе «Мелодией одной звучат печаль и радость…», а стих «Золотая забота, как времени бремя избыть» – в стихе «Сквозь бездну дней пустых, чье бремя не избудешь» [Ronen 1983: 337]. Можно предположить, что отзвук этих фраз в СТН вызван смежностью цикла «Кармен» и в особенности входящего туда «Нет, никогда моей…» с «Розой и Крестом» (1913). И цикл, и драма (начиная с 3-го изд., 1918) посвящены Л. А. Дельмас, а стих «Мелодией одной звучат печаль и радость…» варьирует слова песни Гаэтана, поразившие Бертрана и Изору: «Сердцу закон непреложный / Радость-Страданье одно!». Весьма возможно, что и эта ключевая сентенция, и заглавная символика пьесы прямо восходят к «Розам» Жуковского и что Мандельштам отреагировал на эту связь – в согласии с характерным принципом своей поэтики: избирать «для подтекстообразующего цитирования, прямого или зашифрованного, как раз места, сами представляющие собой цитату или поэтическое оформление “чужого” художественного или идеологического прототипа» [Ронен 2002: 119]. Вместе с тем несомненна зависимость слов песни от стихотворения Тютчева «Два голоса», строки из которого, согласно записям Блока, могли бы служить эпиграфом ко всей пьесе: «Тревога и труд лишь для смертных сердец… / Для них нет победы, для них есть конец». На это указал еще Н. К. Гудзий: «Можно с уверенностью полагать, что пафос тютчевских “Двух голосов” определил собой и пафос основного мотива, звучащего в центральной для всей пьесы песне Гаэтана <…>» [Гудзий 1930: 524]. Ср. также крылатую формулу «Durch Leiden – Freude», восходящую к письму Бетховена графине Эрдёди от 19 окт. 1815 г.
735
Уже привлекавшееся в этой связи П. М. Нерлером (см. [Мандельштам 1990а: I, 486]).
736
Ср. упоминания Трои в поэзии Мандельштама той поры, которым закономерно сопутствуют мотивы захвата и разрушения: «Когда бы не Елена, / Что Троя вам одна, ахейские мужи?» («Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 1915); «Где милая Троя? Где царский, где девичий дом? / Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник» («За то, что я руки твои не сумел удержать…», 1920).
737
По-видимому, в этой терпимости Мандельштама по отношению к еврейскому кровосмешению проявляется национальный менталитет: еврейские ограничения на брак между родственниками были менее строгими, чем христианские. Интересно, что в глазах современного Мандельштаму носителя еврейской культуры даже библейский сюжет об отнюдь не богоугодном инцесте приобретает романтическую окраску в духе истории Паоло и Франчески: «Счастливые детские годы! <…> Сколько дивных образов вставало передо мною и сколько сладких слез пролили глаза мои над повестью любви Амнона и Тамары <…>» («Из дневника», 1888) [Фруг 1995: 146]. Диаметрально противоположное понимание общего смысла стихотворения Мандельштама отстаивает C. Cavanagh [1995: 136–141], будучи убеждена, что мотивам иудейского желтого сумрака, кровосмешения и обращенного времени, относящимся к негативному полюсу ценностной оси, противопоставлена Елена как буквальная прародительница западной культуры, давшая толчок великим эпическим событиям. По мнению исследовательницы, Мандельштам испытал влияние культурологических идей Ф. Ф. Зелинского, который, в частности, упрекал еврейство в отказе от ассимиляции, т. е., в масштабах культуры и нации, в своего рода инцестуальном комплексе. В другой связи о вероятном воздействии трудов Зелинского на Мандельштама см. [Левинтон 1977: 202 сл.].
738
Как заметил мне Р. Д. Тименчик, сближение имен Лия и Елена имеет и бытовую подоплеку: носительницы первого, стремясь ассимилироваться, как правило, меняли его на второе.
739
Конечно, библейский текст мог давать импульс и к диаметрально противоположной трактовке невольного сожительства Лота с дочерьми: как своего рода воздаяния за готовность отдать их на поругание содомлянам (ср.: «…чудесное спасение из греховного города курьезно завершается кровосмесительной связью, – аналогом противоестественного греха, за который были наказаны жители Содома» [Вайскопф 1984: 208]). Но у Мандельштама подобная логика не прослеживается.
740
О связи двух мифологических мотивов – раздвоения божества на дневную и ночную фазы и кровосмесительства – см. [Фрейденберг 1987: 129].
741
По другой версии, «имя Лия, которое он дает невесте, – из рассказа Н. Гумилева, где так зовут дочь Каина, к которой тот питает преступную страсть» [Гаспаров М. 2001: 749]. Ср.: «Источник имени Лия, по-видимому, не столько деятельная и некрасивая жена праотца Иакова, сколько придуманная Гумилевым младшая дочь Каина <…> (в воспоминаниях Н. Я. Мандельштам из-за общей темы кровосмешения возникает путаница между этими созданиями фантазии Гумилева и дочерьми Лота)» [Ронен 2010а: 17]. По-видимому, первым, не настаивая на факте интертекстуальной зависимости, параллель отметил М. Баскер [1996: 156]. Эта гипотеза вызывает возражения. Во-первых, в рассказе «Дочери Каина» (1907), варьирующем мотивы «Двенадцати спящих дев» Жуковского, вожделение Каина к Лии, младшей из его дочерей, не просто не богоугодно, а настолько неприемлемо в глазах Бога, что Он, допустивший убийство Каином брата, в данном случае, дабы предотвратить «великий грех», усыпляет Каина и повелевает семи его дочерям вечно стоять вокруг спящего, охраняя его летаргический сон. Во-вторых, в рассказе вместо привычного библейского колорита, семантически смежного с иудейским, создается буквально допотопный: главный герой, крестоносец, посланный на разведку из Ливана в Святую Землю, сперва встречает пещерного медведя, а затем, погруженный в сон, видит первые времена, где малочисленные люди живут среди птеродактилей, ихтиозавров и гиппопотамов (мотив, контаминирующий картины естественной истории до сотворения человека, представшие заглавному герою мистерии Байрона «Каин» во время визионерского посещения царства смерти, и положения оккультного антропогенеза, суммированные Е. П. Блаватской, – см. комментарий к рассказу: [Гумилев 2005: 318–339]; кстати, соблазнительно допустить, что изображение гиппопотамов по соседству с гигантскими ископаемыми было подсказано Гумилеву фразой по поводу «Каина» из письма Байрона Томасу Муру от 19 сентября 1821 г. – независимо от того, какой смысл вкладывает Байрон в слово behemoths: «I have gone upon the notion of Cuvier, that the world has been destroyed three or four times, and was inhabited by mammoths, behemoths, and what not <…>» [Byron 1830: II, 529]). Нужно также отметить, в связи с предполагаемой тождественностью солнца Илиона черному солнцу и в связи с мотивом гибнущего города, сопутствующим образу черного солнца в «Тристиях», что в рассказе Гумилева, несмотря на условную привязку действия к Третьему крестовому походу, нигде не упоминается о разрушении какого-либо города.
742
Для стихотворений корпуса «Тристий» Г. Фрейдин выстраивает сложную систему корреляций, включающую в себя города и участников инцестуальных отношений, и уделяет особое внимание теме Содома в связи с «Вернись в смесительное лоно…» [Freidin 1987: 139–140].
743
В «Веницейской жизни, мрачной и бесплодной…» (1920) мерцание черного Веспера в зеркальных водах Венеции (города праздничной смерти, проклятого байроновским Марино Фальеро), по-видимому, соотнесено с историей Сусанны, которая, по замечанию Г. Фрейдина [Freidin 1987: 150], принадлежит к тому же ряду фигур, что Иосиф и Ипполит: все они дали отпор своим соблазнителям и были ими зеркально обвинены в развратных действиях. Существенно, что все три сюжета строятся на квазиинцестуальной коллизии: младшее поколение подвергается сексуальному преследованию со стороны старшего, что для Мандельштама коннотирует с рождением наоборот, с темпоральной инверсией (ср. мотив закольцованного времени, предположительно заключенный в образе Сатурнова кольца: «Сатурн в мифологических аллегориях означает время, пожирающее своих детей <…>» [Гаспаров, Ронен 2002: 200]). Для параллели ‘Сусанна – Ипполит’, помимо образа носилок (о котором в этой связи писали неоднократно), может быть значим стих «Тяжелы твои, Венеция, уборы»; ср. стихи о Федре: «– Как этих покрывал и этого убора / Мне пышность тяжела <…>». В свете заключенной в словах «Черным бархатом завешенная плаха» возможной отсылки к изображениям казни Марино Фальеро (их продемонстрировал А. Кулик в ходе своего доклада о «Веницейской жизни…» на Сермановских чтениях в Иерусалимском университете 4 декабря 2013 г.) и к традиции завешивать черным бархатом портрет Фальеро во Дворце дожей [Полякова 1997: 180] следует отметить, что и судьба Фальеро у Байрона, по-видимому, небезразлична для прочтения «Веницейской жизни…»: старик, женившийся на юной девушке по просьбе ее умирающего отца (т. е. как бы вместо него), герой Байрона обрекает себя на позорную гибель, чтобы очистить от клеветы жену; его участь зеркальна участи старцев, казненных за их клевету на Сусанну.
744
См. также [Тоддес 1988: 189; 209].
745
Например, в «Четвертой прозе» Мандельштам тонко играет, с одной стороны, на косвенном самоотождествлении с костеровским рыбником, против которого мать одной из его жертв обратила его же орудие убийства – клыкастую вафельницу – и который скрещен с кровожадным Шейлоком, тоже угодившим в собственный капкан, а с другой – на отождествлении своих недругов, среди которых – тоже русский писатель и тоже еврей Горнфельд, с вершителями «литературно[го] обрезани[я] или обесчещень[я]» (II, 354) (см. гл. III наст. кн.). Орудие этого ритуала (в прототипе – вафельница) оборачивается кондукторскими щипцами, с которыми поэт ассоциирует свою фамилию: «Как стальными кондукторскими щипцами, я весь изрешечен и проштемпелеван собственной фамилией» (357) (ср. «Я – трамвайная вишенка страшной поры» в стихотворении 1931 г.). Глагол проштемпелеван, конечно же, намекает на статью Белого «Штемпелеванная культура» (1909), в которой евреи – деятели искусства объявлялись оскопителями русского национального духа, отделяющими от него ее плоть. Аллюзия на ту же статью Белого содержится и в сочиненном совместно с Б. Лившицем шуточном «Сонете» (1926 или 1927; по др. датировке – 1924 или 1925). Она построена на аллитерации Гоголь / Гомель: «Здесь Гомель – Рим, здесь папа – Шолом Аш»; ср. у Белого: «Вместо Гоголя объявляется Шолом Аш».
746
К примеру, в статье «О природе слова» (1922), нападая на символистов, Мандельштам от своего имени почти дословно воспроизвел фрагменты статей Андрея Белого (см. [Марголина 1991: 443]).
747
Так, в связи с историей о присвоении Мандельштамом части причитавшегося Б. Лившицу гонорара Н. К. Чуковский резюмирует: «Характерно, что в результате всей этой истории не Лившиц обиделся на Мандельштама, а Мандельштам на Лившица» [Чуковский Н. 1989: 164]. Ср. другой, действительно болезненный для Мандельштама конфликт из-за денежного долга, в оценке которого мемуаристы вполне сходятся, расходясь при этом в определении роли, выпавшей Мандельштаму, – не то должника [Там же], не то заимодавца [Кузин, Мандельштам 1999: 171].
748
Как справедливо отмечает Э. Вайсбанд [2008: 298], «социальная реальность революционной и послереволюционной России эксплицирует орфическую матрицу растерзания <…> в поэзии Мандельштама». В начале 1920-х гг. такой экспликацией стал сюжет о телесном распаде как следствии дисгармонизации мира и обращения времени вспять. Этот сюжет, развернутый прежде всего в «Я по лесенке приставной…» и «Веке» (оба – 1922), выделил М. Б. Ямпольский [2003], указав на источник, несколько отстоящий от орфического мифа и мистической доктрины Иванова, – «Тимей» Платона.
749
См. гл. I. В исследовании Юрия Левинга, которое в какой-то мере было спровоцировано знакомством с текстом вышеупомянутой главы в рукописи и в первой (сетевой) публикации (2007), отмечен ряд мотивных и лексических совпадений основной редакции «Дайте Тютчеву стрекозу…» (ДТС) с несколькими стихотворениями Клюева: «Ночь со своднею-луной…», «Меня октябрь настиг плечистым…», «Я человек, рожденный не в боях…». Ученый приходит к выводу о неслучайности этих совпадений и о рецепции Клюева Мандельштамом (а не наоборот, что не само собой разумеется ввиду расплывчатой датировки перечисленных текстов Клюева – 1932–1933). Наиболее верным признаком этой интертекстуальной связи и ее вектора Левинг считает слово прошва как встречающееся только единожды в поэтическом словаре Мандельштама и будто бы непосредственно восходящее к «Меня октябрь настиг плечистым…» [Leving 2009: 55]. Но это обобщение не учитывает корпус поэтических переводов Мандельштама (за что несу ответственность и я как один из первых читателей и приватных критиков работы Левинга). В переводе из Макса Бартеля «Когда мы шагаем в центральные кварталы…», опубликованном еще в 1925 г., мы найдем не только слово прошва, но и рифму-антецедент ‘подошвы – прошвы’. Едва ли было случайностью, что Мандельштам в ДТС воспользовался рифмой, ранее появившейся там, где шла речь о порабощенном городе в терминах уподобления города блуднице (о его бытовании с глубочайшей древности см. [Топоров 1987]): «И шаркают дальше наши грубые подошвы, / И город, с собачьим страхом в глазах, / Как девка, валяется у нас в ногах; / Но плюем на брильянты и кружевные прошвы!»; ср.: «Wir wandeln daher in Donner und Blitzen. / Die Stadt ist wie eine Dirne geschmückt, / Die sich demütig vor unsere Füße bückt. / Wir spotten der Perlen. Wir lachen der Spitzen» [Barthel 1920: 132]; букв. пер.: «Мы бродим в громе и в молнии. / Город, как шлюха, в украшениях, / Которая покорно кланяется нам в ноги. / Мы издеваемся над жемчужинами. Мы смеемся над кружевами» (ср. также кружевные прошвы → наряды тафтяные черновой редакции ДТС). Принимая общий вывод Левинга (подтверждаемый, в частности, ценным анализом мотива «бесхозного» перстня) о поэтическом диалоге Мандельштама с Клюевым и поэтами его круга не только в «Стихах о русской поэзии», но и, скрытым образом, в ДТС, подчеркну, что на данном этапе все же нельзя констатировать наличие в ДТС подтекстуальных приемов, непосредственно отсылающих к сочинениям современников Мандельштама.
750
В некоторых поздних редакциях – «Золотые убийства жиры». Ср. это разночтение с последовательным семантическим параллелизмом строк «Ядовитого холода ягодами» и «Убивать, холодать, голодать».
751
Поэтому мандельштамовская зрительная аналогия шире, чем отмечавшиеся в этой связи гумилевская и нарбутовская: «звезды, как горсть виноградин» [Хазан 1991: 297], «Звезды – в злате виноград» [Лекманов 2006: 330], а также, к примеру, пастернаковская: «Ночь в звездах, стих норд-ост, / И жерди палисадин / Моргают сквозь нарост / Зрачками виноградин» («Как кочегар, на бак…», 1936). Ближе к решению Мандельштама другой образ у Нарбута, также отмеченный О. А. Лекмановым: «…виснут / Золотые гроздья звезд» [Там же]. В этой же связи уместно вспомнить шумерскую богиню Гештиннин, чье имя предположительно означает «виноградная лоза небес».
752
В связи с чем указывалось на аполлинеровского артиллериста, который до мобилизации был виноградарем («Виноградарь из Шампани») (см. [Гаспаров М. 1996: 55] со ссылкой на И. Ю. Подгаецкую).
753
Поэтому представляются избыточными споры о том, чтó подразумевается под ядом Вердена: отравляющие газы или же источаемый жертвами артиллерийской бойни трупный яд (см. [Морозов 2006: 431]). Оба смысла равноправны. Более того, оба они должны потесниться, освобождая часть смыслового поля для жажды и жары из перевода бартелевского «Вердена» (см. ниже).
754
См. [Иванов В. В. 2000: 435–437]. Также см. [Жолковский 2000: 173].
755
О зловещих коннотациях этого образа см. [Тарановский 2000: 338–339].
756
Как мы вскоре убедимся, в «Стихах о неизвестном солдате» получают развитие либо становятся объектами цитации преимущественно такие элементы этих переводов, которые не имеют строгих соответствий в немецком оригинале.
757
Ср.: «Petrograd <…> Und mein Herz ist so in Aufruhr, / wie dein Herz im Frontgewitter. <…> Ach, wie ängstigt mich der Morgen! Soll dein Flammenherz veraschen» [Barthel 1920: 148–149]. Букв. пер.: «Петроград <…> И мое сердце в таком возбуждении, как твое во время фронтальной грозы. <…> О, как меня страшит утро! Неужели твое пламенное сердце станет пеплом!» (Мандельштам, возможно, не знал, что Frontgewitter – метеорологический термин, и принял его за метафору артобстрела).
758
Ср.: «Verdun, dein Atem stinkt und fährt / Wie süßes Gift in das Geäder» [Barthel 1920: 76]. Букв. пер.: «Верден, твое дыхание зловонно и движется по артериям подобно сладкому яду».
759
Ср.: «Frankreich, Frankreich, / arme Erde, / vom Granatenschlag / durchsiebt» [Barthel 1917: 46]. Букв. пер.: «Франция, Франция, несчастная земля, просеянная сквозь сито артиллерийского огня». Передав durchsiebt как изрыт, Мандельштам привнес уподобление ядер – оспе по аналогии с речевым клише «щеки, изрытые оспой». Отсюда в «Стихах о неизвестном солдате» возник «оспенный <…> гений могил». Однако исходный бартелевский образ, исчезнувший в переводе, по-видимому, тоже отразился в тексте «Стихов…», – ср. «дождь, неприветливый сеятель».
760
Ее отметил (но только непосредственно для обсуждаемого места «Стихов о неизвестном солдате») О. Ронен [2002: 110]. Ср. перечисление мандельштамовских интертекстуальных параллелей к образу угрожающих плодов [Там же: 107].
761
Ср.: «Lenin spricht, der kühle Stürmer: “Auf, es ist die Zeit gekommen!”» [Barthel 1920: 148]. Букв. пер.: «Говорит Ленин, хладнокровно атакуя: “Вперед, время пришло!”».
762
Ср. в мемуарах Пяста (1929): «…с тех пор как Москва стала единственною столицею СССР, среди бывших Ленинградарей (см. сборник С. П. Боброва “Виноградари над лозами”. Если “виноградари”, то ведь и “ленинградари”) стала с тех пор наблюдаться <…> тяга граждан-интеллигентов в Москву <…>» [Пяст 1997: 193] («…кн. стихов Боброва», – поправляет мемуариста Р. Д. Тименчик, который любезно и указал мне на эту параллель, – «называлась “Вертоградари над лозами”» [Там же: 388]). Парономастическая связь винограда с Ленинградом находится в очевидном противоречии с семантической контрастностью солнечной лозы и северного климата, но это противоречие преодолевается за счет дополнительной характеристики космических виноградин – холода ягоды, – которая в поэтическом мире Мандельштама не является семантическим раздражителем – ср. образ замороженного винограда («Армения», 2) (параллель отмечена в [Левин 1979: 198]); ср. строки утерянного стихотворения воронежского периода: «Такие же люди, как вы, / С глазами, вдолбленными в череп, / Такие же судьи, как вы, / Лишили вас холода тутовых ягод»; ср. также тройное лексическое совпадение с текстом 1922 г.: «Из свежих капель виноградник / Зашевелился в мураве: / Как будто холода рассадник / Открылся в лапчатой Москве» («Московский дождик»).
763
Ср. в черновых вариантах «Чуть мерцает призрачная сцена…»: «А взгляни на небо – закипает [А на небе варится не плохо] / Золотая дымная уха: / Словно звезды мелкие рыбешки / И на них густой навар» (Е. А. Тоддес [1998: 327] непосредственно соотнес этот фрагмент со строкой «Золотые созвездий жиры»). Данный претекст удостоверяет, во-первых, парадигматическую общность звездного жира на темном небе и фонарного жира на темной воде, а во-вторых – устойчивую связь этой метафорики с темой Петербурга.
764
Об этой двойственности см. [Левин 1972: 43–44], [Przybylski 1987: 144–146].
765
Ср. в идиллии Черниховского «В знойный день» (1905, пер. В. Ходасевича): «…Мальчик / В сны наяву погрузился. Что в хедере слышит, бывало, / То ему чудится всюду. Пришли на деревню цыгане, / Просто сказать – кузнецы: так он в них увидел египтян».
766
Ср. словосочетание ожерелий жир («Внутри горы бездействует кумир…», 1936), на которое уже указывалось в этой же связи, но в ином контексте: [Мейлах 1994: 144].
767
Кроме того, желток, по замечанию Ю. И. Левина, может «ассоциироваться с гоголь-моголем» [Левин 1972: 39].
768
Как отсылку к XVIII веку его расценивает Б. М. Гаспаров [1994: 235]. В сочетании ябед с виноградинами, которыми угрожают неизведанные миры, можно также заподозрить намек на библейский эпизод засылки лазутчиков в Землю Обетованную, вернувшихся оттуда в испуге от исполинских размеров всего виденного, включая «гради утверждени ограждением велицы зело» (Числ. 13:29), и принесших «плод земный» (13:27), традиционно изображаемый в виде огромной виноградной лозы, которую несут на перекладине двое людей (см., в частности, известную иллюстрацию Доре).
769
Из предшествующего (первого) фрагмента «Стихов о неизвестном солдате». Параллелизм отмечен Ю. И. Левиным [1979: 198].
770
К этому можно добавить, что образ золотых яблок, определение украденные и общая картина ночного неба – все это обеспечивает суммарную отсылку к одиннадцатому подвигу Геракла, который с помощью Атланта похитил из сада Гесперид (дочерей Ночи) золотые яблоки, дарующие вечную молодость.
771
Под другим углом этот же ряд может складываться в «образ химической войны как одного из аспектов войны глобальной», который склонен тут видеть Ю. И. Левин: «“шевелящиеся виноградины”, “ядовитого холода ягоды”, висящие шатры и города, золотая расцветка – все это напоминает картинки с изображением газовой атаки (учебники и книжки по ПВХО – противохимической обороне – были широко распространены в 30-х годах)» [Левин 1979: 198].
772
Развивая наблюдение Г. А. Левинтона о том, что стих «Этот воздух пусть будет свидетелем» восходит к «Современной оде» («И – беру небеса во свидетели») (см.: I, 659), М. В. Безродный отметил, в частности, следующий параллелизм рифмующих сегментов у Мандельштама и Некрасова: «Шевелящимися виноградинами <…> И висят городами украденными» ← «Не обидишь ты даром и гадины <…> И червонцы твои не украдены» (см. запись в блоге Безродного от 8.9.2012:
773
В основу главы положена гостевая лекция на семинаре А. Э. Кулика и Р. Д. Тименчика «Russian Modernism in the Intercultural Context» (4 ноября 2013, HUJI). Первая публикация: Черное солнце, украденный город: О единстве двух мандельштамовских лейтмотивов // Toronto Slavic Quarterly, 46 (2013). – P. 94–134.
774
А также, как заметила мне Н. Рудник, к православным святыням, которые вскоре составят главный колорит его стихов, адресованных Цветаевой или навеянных общением с ней: «В разноголосице девического хора…», «На розвальнях, уложенных соломой…», «О, этот воздух, смутой пьяный…», «Не веря воскресенья чуду…» (все – 1916). Но в обоих цветаевских изложениях этот нюанс остается не высказанным ею своему спутнику.
775
Дата проставлена под беловым автографом (с написанием слова «Медуза» с прописной буквы и с одним исправлением: «северной» вместо «царственной»). См. факсимиле автографа: [Мандельштам 1990а: I, 113].
776
Нужно отметить, что и в стихах Цветаевой этого периода набережная, освещенная фонарями, является московско-петербургским сверхтопосом, объединяющим разлученных. Ср. в одном из стихотворений цикла «Стихи к Блоку», датированном 7 мая 1916 г. (первоначально входило в цикл «Стихи о Москве», частью обращенный к Мандельштаму): «И проходишь ты над своей Невой / О ту пору, как над рекой-Москвой / Я стою с опущенной головой, / И слипаются фонари».
777
Ср. предположение комментатора, что стихи Мандельштама были навеяны «контрастом между Петроградом и Москвой, только что – весной 1916 г. – “подаренной” Мандельштаму Цветаевой» [Мандельштам 1990а: I, 476]. О лейтмотиве дарения в поэтическом диалоге Цветаевой и Мандельштама см. [Freidin 1987: 99–123]. Поздней репликой Мандельштама в его полуспоре с Цветаевой о двух столицах, вероятно, является фраза насчет «[б]езвкусиц[ы] и историческ[ой] фальш[и] стихов Марины Цветаевой о России – лженародных и лжемосковских» из статьи 1922 г. со знаменательным названием «Литературная Москва» (двойное лже- – не намек ли на мужей Мнишек?).
778
Подробно анализируя мотив умирающего / мертвого Петербурга, Д. М. Сегал, в частности, отмечает в связи с первоначальным написанием слова «Медуза» с прописной буквы: «…невская волна, сравниваемая здесь с Медузой, должна обратить в камень того, кто смотрит ей в глаза – и, быть может, дворцы и памятники и есть эти окаменевшие наблюдатели? <…>» [Сегал 1998: 418]. В пользу этого предположения может свидетельствовать, во-первых, то, что предполагаемый мотив окаменения Петрополя снабжает этимологию его названия этиологической мотивировкой, а во-вторых, то, что финальные строки всего цикла, в которых богине моря Афине объявляется, что Петрополь подвластен не ей, а богине подземного царства Прозерпине, могут намекать на реванш Медузы перед Афиной, согласно Овидию, превратившей Медузу в чудовище (Met., IV, 786–802). На эту мифологическую связь между Медузой и Афиной мне указала Г. Дюсембаева. О связи между этой заключительной апострофой и темой умирания Петербурга см. [Сегал 2006: 507–508].
779
Ср. догадку А. Г. Меца, что имя Цветаевой «дано иносказательно в стихе “Морской воды тяжелый изумруд”» (I, 554). В связи с упоминанием Флоренции в обращенном к Цветаевой «В разноголосице девического хора…» ср. «наблюдение В. М. Борисова: Флоренция как “перевод” имени Цветаева <…>» [Левинтон 1977: 223], а также симметричное наблюдение самого автора статьи: цитата из Цветаевой в «Разговоре о Данте» (II, 180) как импликация астионима Флоренция [Там же: 215] (подробнее см. [Левинтон 1998: 733–734]).
780
Ключевые слова – черный соболь – находим и в «Альбоме Онегина» в ряду других соответствий (таковы контрастное соседство черного меха с зеленым цветом, словоформы «Невы» и «плечи» в рифменных позициях, упоминание богини римского пантеона, мотив полета): «Вчера у В., оставя пир, / R. С. летела как зефир, / Не внемля жалобам и пеням, / А мы по лаковым ступеням / Летели шумною толпой / За одалиской молодой. / Последний звук последней речи / Я от нее поймать успел, / Я черным соболем одел / Ее блистающие плечи, / На кудри милой головы / Я шаль зеленую накинул, / Я пред Венерою Невы / Толпу влюбленную раздвинул» (указано М. Безродным; ранее подтекст отметил Е. А. Тоддес, прибавив: «Мандельштам цитировал эти строки Пушкина в статье 1927 г. о В. Н. Яхонтове и его композиции “Петербург” <…>» [Тоддес 1994а: 108] – см. III, 225).
781
Взаимоисключающие, казалось бы, Прозерпина и Персефона появятся в «Египетской марке» в виде абсурдной конъюнкции – в знак того, что к этим богиням взывать бесполезно: «С тем же успехом он мог бы звонить к Прозерпине или к Персефоне, куда телефон еще не проведен. <…> Помните, что к Прозерпине и к Персефоне телефон еще не проведен» (II, 284). Этот мотив «Египетской марки» опирается не только на суицидную и потустороннюю семантику телефона в литературе эпохи, но и на одну из реалий, породивших эту семантику, – затрудненную слышимость [Тименчик 1988: 157]. О. Ханзен-Лёве [2005: 318] отмечает каламбурный характер сближения телеФОНа и ПерсеФОНы.
782
Преобразование реки в стремнину позволяет окраситься ржавчиной не только долине, но и стремени, которое синтезируется из стремнины и пасущихся табунов. Эти табуны подле прозрачной реки – источник строки «Прозрачны гривы табуна ночного» из «Я слово позабыл, что я хотел сказать…» (наряду с другим, на который указал К. Ф. Тарановский [2000: 121], – упоминанием о конях, пасущихся в Аиде, у Вергилия, «Энеида», VI, 652–655). Сухая река в стихе, идущем следом («В сухой реке пустой челнок плывет») – все та же времени стремнина, уносящая сухое золото классической весны. О других интертекстуальных параллелях к образу сухой реки см. [Ronen 1979: 178–179]; об источнике державинского образа реки времен см. [Ронен 2010а: 324–325].
783
См. также обыгрывание своей фамилии самим Державиным [Левинтон, Тименчик 2000: 413]. Ср. позднее в статье «Девятнадцатый век» (1922): «Державин на пороге девятнадцатого столетия нацарапал на грифельной доске несколько стихов, которые могли бы послужить лейтмотивом всего грядущего столетия <…> Здесь на ржавом языке одряхлевшего столетия со всей мощью и проницательностью высказана потаенная мысль грядущего <…>» (II, 112–113) (отмечено [Там же]). Также ср. трижды повторенное звукосочетание, вероятно, намекающее на инициалы имени и отчества Державина (в преддверии создания «Грифельной оды» в следующем году): ГРифельной, ГРядущего (прил.), ГРядущего (сущ.); аналогичную звукопись находим в статье «Слово и культура» (1921): «Как трубный глас звучит угроза, нацарапанная Державиным на грифельной доске» (II, 53) (уГРоза, ГРифельной); как я отмечал уже в гл. VII, трубный глас не только предваряет упоминание Иисуса Навина (в качестве аллюзии на державинский «Приказ моему привратнику» и гумилевское «Слово» [Ronen 1983: 3–4]; к библейскому мотиву остановленного солнца ср. цветаевское обращение к Мандельштаму: «Что Вам, молодой Державин, / Мой невоспитанный стих! <…> Ты солнце стерпел, не щурясь, – / Юный ли взгляд мой тяжел». – «Никто ничего не отнял!..», 1916), но и намекает на архангела, именем которого Державин был назван.
784
Ср. в «Арфе» Державина: «Как весело внимать, когда с тобой [арфой] она [харита] / Поет про родину, отечество драгое, / И возвещает мне, как там цветет весна, / Как время катится в Казани золотое». В связи с мандельштамовской и цветаевской образностью надо отметить, впрочем, что исторический Август был, наоборот, основателем Римской империи.
785
Связь между двумя стихотворениями была отмечена З. Г. Минц [1979: 109].
786
Г. А. Левинтон [1977: 228] допускает здесь отголосок века злачного из державинской «Похвалы Комару».
787
Ср. также: «В связи с державинской, как, впрочем, и осенней, темой следует отметить у Вяч. Иванова: “Нагроможден костер // Державы ржавой”; “Парфенон злато-ржавый”, “золотая прозрачность” (у Мандельштама прозрачна река времен, несущая золото)» [Тоддес 1994а: 84].
788
В стихотворении Мандельштама предпринят опыт говорения как бы устами сразу нескольких поэтов-предшественников – Овидия (см. [Террас 1995: 18], [Пшыбыльский 1995: 45–46] и др.), Пушкина («Да будет в старости печаль моя светла» ← «Мне грустно и легко; печаль моя светла» [Brown 1973: 194–195], [Тарановский 2000: 16]; «Средь увядания спокойного природы», «Топча по осени дубовые листы», ржавчиной, золото ← «Люблю я пышное природы увяданье», «Роняет лес багряный свой убор», багрец и золото [Тоддес 1994а: 84]) и Державина (а возможно, и еще кого-либо из числа тех, к чьим текстам Мандельштам здесь предположительно апеллирует, – Горация [Сегал 1998: 301 сл.], Тютчева [Тоддес 1994а: 84], Верлена [Лекманов 2000: 526 сл.], Фета [Мусатов 2000: 122]). Принцип подбора основных участников этого многоголосья понятен лишь отчасти: вполне естественен переход от Овидия к Пушкину, но едва ли к Державину (ср. однако «державинскую тему в стихах Цветаевой к Мандельштаму и анаграмму имени Овидия в выпущенных строках из “Не веря…”: “Я через овиди степные / Тянулся в каменистый Крым […]” <…>» [Левинтон 1977: 223]).
789
Квадратные скобки источника. – Е.С.
790
Наряду с отсылкой к Блоку, отмеченной Тарановским [2000: 338].
791
Ср. [Левинтон 1977: 214], [Ronen 1983: 147], [Сегал 1998: 418], [Сегал 2006: 280–281].
792
См. [Сегал 1998: 618–625], [Eng-Liedmeier 1974], [Malmstad 1977], [Гаспаров, Ронен 2003] и др. работы.
793
Как известно, Мандельштам не имел касательства к составлению этой книги, но вошедшие в нее стихи воспринимались первыми читателями как резко отличные от текстов «каменного» периода (обобщающий анализ этой рецепции см. у Г. А. Левинтона [2005]). Это в значительной мере оправдывает рассмотрение «Тристий» как поэтического единства – разумеется, в отрыве от названия книги и композиции. Ср. [Goldberg 2011: 110–111].
794
«В сухом прозрачном воздухе сверкаешь» («Феодосия», 1919–1922); «Прозрачна даль. Немного винограда» (там же); «Прозрачной слезой на стенах проступила смола» («За то, что я руки твои не сумел удержать…», 1920).
795
«Да будет так: прозрачная фигурка / На чистом блюде глиняном лежит, / Как беличья распластанная шкурка; / Склонясь над воском, девушка глядит. / Не нам гадать о греческом Эребе <…>» («Tristia», 1918); «…И холодком повеяло высоким / От выпукло-девического лба, / Чтобы раскрылись правнукам далеким / Архипелага нежные гроба. // Бежит весна топтать луга Эллады <…>» («Черепаха», 1919).
796
См. часто цитируемое место в предисловии О. Дешарт к собранию сочинений Иванова: [Дешарт 1971: 62].
797
А также проницаемости границы между бытием и небытием; ср.: «Наибольшее значение имеет здесь [в “летейских стихах”] не загробный мир как таковой, не смерть <…> но <…> переход от бытия к небытию. Эта тема <…> продолжена <…> именем Антигоны <…> погребенной заживо за незаконное погребение своих братьев <…>» [Барзах 1999: 210–211].
798
О неполноте прозрачности описываемой среды и ее атрибутов у Мандельштама см. также [Сегал 2006: 328–329]. Этот неизменный акцент на неполноте прозрачности, разумеется, не отменяет индивидуальной генеалогии каждого образа. Так, например, прозрачно-серая весна, несомненно, связана с полупрозрачной ночи тенью из пушкинского «Воспоминания» (см. примеч. 127), к которому, наряду с другими источниками, Г. А. Левинтон [1999: 265–266] возводит и полупрозрачный лес (он же допускает связь эпитета прозрачно-серая с «Лаодамией» Анненского [Левинтон 1977: 167]). Впрочем, еще раньше А. В. Шарапова [1994], во-первых, посчитала этот и ряд других образов из «Когда Психея-жизнь…» контаминацией полупрозрачной ночи тени и прозрачного леса из «Зимнего утра»; во-вторых, предположила, что с этими пушкинскими эпитетами связаны вообще мотивы прозрачности в стихах Мандельштама вплоть до середины 1920‐х гг.; а в-третьих, соотнесла прозрачную стремнину из стихотворения «С веселым ржанием…» со злачными стремнинами из «Кавказа» Пушкина. Все это дает основания полагать, что, разрабатывая тему прозрачности, Мандельштам последовательно переплетает две генеалогии: ивановскую и пушкинскую.
799
См. [Иванов 1971–1987: I, 828–830].
800
Ср. [Лекманов 2009: 40]. Отмечая перекличку мотива прозрачности с творчеством Иванова, О. А. Лекманов, однако, не апеллирует к соответствующему ивановскому концепту. См., впрочем, ряд его наблюдений над ивановскими подтекстами стихов и прозы раннего Мандельштама именно в связи с учением о трансцензусе: [Лекманов 2000: 119 сл.].
801
Здесь нужно сделать оговорку: первое стихотворение цикла «Утро 10 января 1934 года», как показал М. Безродный [2010], оканчивается несомненной аллюзией на стихотворение Иванова «Transcende te ipsum» (кн. «Прозрачность», 1904), само название которого воспроизводит императивную формулу трансцензуса.
802
См. [Кацис 2000: 305–306].
803
Ср. полемику 1908 г. с Ивановым по поводу его концепции двух символизмов и девиза «a realibus ad realiora», суть которого, как утверждает Белый, дублирует положения его, Белого, статьи «Символизм как миропонимание» (1903) [Белый 2012: 239–242]. Учитывая, что в этой статье Белый привлекает сравнительные характеристики цветов спектра и что Иванов в своих статьях использует образ радуги как символ нисхождения, то есть перехода от большей прозрачности к меньшей, не приходится сомневаться, что Белый, употребляя глагол опрозрач(н)ить и его производные, в числе других целей стремился подчеркнуть свой приоритет в разработке соответствующего концепта. Ср. еще рассуждения Белого 1904-го [Там же: 431–433] и 1907‐го [Там же: 298–302] гг. о прозрачности и целлюлярности. См. также [Przybylski 1987: 140]. О фундаментальных теоретических расхождениях между Белым и Ивановым см. в статье [Ханзен-Лёве 1992].
804
О связи этого мотива с учением перипатетиков о первичных цветах и с цветовой теорией Гете см. [Кузнецова 2003]. Общий интерес к этой теории, несомненно, был одним из важных факторов сближения Иванова с антропософами.
805
См., например, статью «Религиозное дело Владимира Соловьева» (1910); см. также [Обатнин 2000: 104 сл.].
806
См. [Иванов 1971–1987: IV, 553], [Дешарт 1971: 114; 148].
807
Расхожий мифологический мотив непосредственного контакта с богом, несущего гибель смертному, входит и в дионисийский цикл мифов: по просьбе Семелы, матери второго Диониса, Зевс обнял ее в своем настоящем обличьи и испепелил молниями, успев лишь спасти нерожденного младенца. «Лирика Иванова дает примеры совмещения обоих значений, и тогда покрывало Изиды, скрывающее тайну, защищает человека от ее познания», – отмечает Обатнин [2000: 107]. Ср. также маску «как аполлинийскую завесу божественной пощады» [Иванов 1909: 346]. Лицезрение света, по мысли Иванова, поразило безумием Ницше [Там же: 19–20] (мотив, восходящий к описанию выхода из пещеры у Платона), а Скрябину открыло путь мистического ухода из жизни [Иванов 1971–1987: III, 185]. См. также статью «О художнике» (1908), где Иванов подразделяет поэтов на облачителей и разоблачителей см. [Иванов 1971–1987: III, 116–117].
808
Что и было отмечено комментаторами писем Рудакова [1997: 61–62].
809
Ср.: «Аполлинийская ткань, брошенная на мир для того, чтобы избежать ужаса при взгляде в бездну, – это линейность нити, это предпочтение прямой, графической природы предметного мира, объекты которого изображаются с помощью контуров и четкой обрисовки. Классический идеал линейности у акмеистов связывается с отказом от романтического или символистского дионисийства (по типу Вяч. Иванова или Белого), где царствует идея нисхождения, слияния, смешения и замещения. <…> Линейный, графический принцип подчеркивает признаки отграниченности, законченности, телеологического разграничения и структурности. <…> в аполлинийском мире доминирует закрытость поверхности тела, визуальные и визионарные качества, вертикальность и мужественность. Аполлинийский мир сновидений за– и раскрывает тайны глубины прозрачностью тканей, письменных или графических линий, разложенных как сеть сигнификантов, через которые вырисовываются черты несказанного, невыразимого облика “иного мира”. <…>» [Ханзен-Лёве 1998: 259]. Далее О. Ханзен-Лёве описывает эстетический выбор Мандельштама как отказ от выбора между этими двумя путями и их взаимоналожение. В связи с мандельштамовской рекомендацией перекрывания реального сверхреальным ср. выводы И. М. Семенко относительно работы Мандельштама над переводами из Петрарки: «…в сменах вариантов Мандельштам движется от одной метафоры к другой, а не только от одного к другому ее лексическому или синтаксическому выражению. Именно поэтому его черновые варианты тяготеют к тому, чтобы быть “окончательным” выражением заключенного в них образа. <…> от варианта к варианту у Мандельштама происходит такая смена одного образа другим, когда в каждом предшествующем заключена мотивировка следующего» [Семенко 1997: 81].
810
Примечательно, что в упоминавшейся выше «Плясунье» Мея плясунья опрозрачена благодаря наброшенному на нее покрову: «Опрозрачила ткань паутинная / Твой призывно откинутый стан».
811
Как отмечалось, «“поле полей” читатель 1937 года волен был интерпретировать и как последний, решительный бой, а не только как Армагеддон и исполнение благовествования о новом небе и новой земле, о светильнике-Агнце, в свете которого будут ходить спасенные народы <…>» [Ронен 2002: 101]. Ср.: «“поле полей” – это совокупность всех прежних “полей боя” в противоположность полю нового, последнего и решительного» [Гаспаров М. 1996: 36]. Образ журавля, пролетающего над полями, актуализирует и традиционные аграрные коннотации поля брани; ср. в переводе из Бартеля: «Война, последняя война, / Неотвратим удар твой. / Благословим дыханье бурь, / Последний бой пред жатвой» («Военная песня»).
812
Ср.: «Чем быстрее растут нули у числа, обозначающего скорость снаряда, тем больше нулей у числа жертв» [Мусатов 2000: 535].
813
Ср. параллель в «Зангези», отмеченную О. Роненом [2002: 107]. Ср. также [Хазан 1991: 299].
814
Следует прокомментировать и некоторые другие смысловые нюансы обсуждаемого фрагмента. Сквозь эфир… свет… скоростей…; весть летит; поле полей. На картезианскую теорию светоносного эфира здесь наслаивается новейшее понятие эфира в значении ‘радиоэфир’. Ср. прозрачность и проницаемость эфира в поэтической традиции (например, в «Измучен жизнью…» Фета: «И так прозрачна огней бесконечность, / И так доступна вся бездна эфира, / Что прямо смотрю я из времени в вечность <…>»). Возможна и корреляция с образом поля полей, поскольку и световые волны, и радиоволны представляют собой колебания электромагнитного поля. Свет размолотых в луч скоростей; светопыльной. Под световой пылью подразумеваются кванты света (с 1926 г. они стали называться фотонами), условием существования которых является движение со скоростью света (ср. [Иванов В. В. 1990: 357]). Сквозь эфир десятично-означенный; нолей; луч летит. Расстояние, пролетаемое лучом, измеряется числом, которое, в соответствии с десятичным счислением, десятикратно увеличивается с каждым прибавляемым нулем; электрический заряд фотона равен нулю. Но допустимо и более прозаическое толкование образа десятично-означенного эфира: шкала настройки радиочастот. Начинает число. Число, которым выражается расстояние, пролетаемое лучом, подобно самому лучу, который имеет начало и не имеет конца. Это все возрастающее число начинается с цифры, отличной от нуля, и продолжается в виде бесконечных нулей. Светлой болью. В контексте игры значениями слова «свет» в стихе «От меня будет свету светло» [Левин 1979: 199] (по аналогии с каламбуром «миру – мир» из «Пролетарий, в зародыше задуши войну!» (1924) Маяковского, – но появляющимся еще в державинском «Лебеде», – и подобного рода лозунгами периода гражданской войны) светлая боль синонимична мировой скорби по жертвам войн, но при этом позитивно окрашена (по аналогии с пушкинским «печаль моя светла», входившим, как мы помним, в цитатный лексикон Мандельштама, – ср. еще словосочетание ясная тоска из «Не сравнивай: живущий несравним…», 1937 [Тоддес 1993: 47]; этой аналогией в какой-то мере подтверждается вспомогательная подтекстуальная связь причастия опрозрачненный с творчеством Белого – ср. комбинированную реминисценцию из Пушкина и «Слова о полку Игореве» в стихах на смерть Белого: «печаль моя жирна» [Левинтон 1971: 52]). Ср. торжественную боль («Есть ценностей незыблемая скала…», 1914) – «метоними[ю], заменяющ[ую] название жанра (трагедия) признаками его стиля (торжественная) и материала (боль – аристотелевское страдание)» [Ронен 2002: 29]. Эфир; молью. Ср. эфирность, т. е. воздушность и невесомость, как поэтическую характеристику бабочек и мотыльков. Например, у Жуковского мотылек именуется эфирным посетителем («Узник к мотыльку, влетевшему в его темницу»).
815
Как минимум два из них, следующие один за другим, возможно, правильнее было бы назвать образами в кубе: «болью и молью нолей»; «за полем полей – поле новое».
816
Ф. Б. Успенский интерпретирует такие образы по-другому – как развертывание лексемы в синтагматической плоскости [Успенский Ф. 2008: 93 сл.].
817
Первая публикация: Вёсны и осени: Возвращаясь к вопросу о влиянии Вячеслава Иванова на Мандельштама // Toronto Slavic Quarterly, 47 (2014). – P. 240–260.
818
Ср. воздействие на Гумилева и молодого Мандельштама мэонизма с его призывом «уничтожиться как единство и как множество расцвести» [Ронен 1992: 510].
819
См., например, «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», где лирическому субъекту принадлежит роль медиатора между призрачным Петербургом и мертвым Ленинградом, единственного живого человека, чья память не позволяет призракам исчезнуть бесследно.
820
Так Иванов писал в 1938 г. Спустя еще почти десятилетие он посвятит изложению своей модели творчества статью «Forma formans e forma formata» (1947). Но по существу в этих поздних текстах имело место лишь уточнение тезисов, сформулированных уже в таких докладах и статьях, как «О границах искусства» (1913), «Взгляд Скрябина на искусство» (1915) и др. Ср. у Мандельштама в статье «Слово и культура» (1921): «Пиши безóбразные стихи, если сможешь, если сумеешь. Слепой узнáет милое лицо, едва прикоснувшись к нему зрячими перстами, и слезы радости, настоящей радости узнаванья, брызнут из глаз его после долгой разлуки. Стихотворение живо внутренним образом, тем звучащим слепком формы, который предваряет написанное стихотворение. Ни одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это звучит внутренний образ, это его осязает слух поэта. | И сладок нам лишь узнаванья миг!» (II, 53–54). О платонических и неоплатонических истоках понятий внутреннего образа и узнаванья см. [Террас 1973: 457]. О пересечениях между ивановским «Взглядом Скрябина на искусство» и мандельштамовским «Скрябиным и христианством» см. [Лекманов 2000: 125–126].
821
Или, точнее, как начало этой фазы, когда «переживание эстетического порядка исторгает дух из граней личного», после чего уже «[в]осторг восхождения утверждает сверхличное» [Иванов 1971–1987: I, 829].
822
См. [Terras 1975: 393].
823
Ср. мотив поэтического письма под диктовку у Мандельштама и Ахматовой: [Топоров 1973: 471], [Тименчик 1989: 16–17], [Lachmann 1990: 389 сл.], [Степанова 2000: 17–18].
824
Ср. еще в статье «Петр Чаадаев» (1914–1915): «…понимание Чаадаевым истории исключает возможность всякого вступления на исторический путь. В духе этого понимания, на историческом пути можно находиться только ранее всякого начала. История – это лестница Иакова, по которой ангелы сходят с неба на землю» (II, 29). Ср. в статье Иванова «Символика эстетических начал» (= «О нисхождении», 1905): «…восхождение и нисхождение – лестница, приснившаяся Иакову <…>» [Иванов 1971–1987: I, 827].
825
«Трансцензус душевности к духовности Вяч. Иванов считал насущнейшей задачей времени», – отмечает Л. Силард [2002: 80].
826
«…Человеческий гений ограничивается благовестиями и обетованиями, хотел бы и не может совершить теургический акт и совершает только акт символический» [Иванов 1916: 221]. О «теургическом томлении» художника, которому лишь до известного предела дано опрозрачнить свой материал, см. также [Силард 2002: 127].
827
См., например, [Иванов 1909: 20].
828
Как пишет Е. А. Тоддес, «[в] отличие от Пушкина, у Мандельштама Овидий персонифицирует определенную культурологическую ситуацию: культура в варварском <…> окружении; речь идет не столько о “милости к падшим”, сколько о возможности метаморфозы культуры в новой социальной среде и окультуривании последней». Соответственно, в статье «Слово и культура» имплицитно постулируется «зависимость варваров от Овидия как обладателя Логоса» [Тоддес 1994а: 103–104]. Смежные мотивы – похищение Эвридики и раздевание Федры, приписываемые Анненскому: «…когда европейцы его узнают <…>, они испугаются дерзости этого царственного хищника, похитившего у них голубку Эвридику для русских снегов [подобно Прометею, похитившему огонь для зябнущих пещерных людей, какими они описаны у Эсхила в “Прикованном Прометее”, 452–453. – Е.С.], сорвавшего классическую [т. е. “ложноклассическую”, расиновскую, под которой – аутентичная, еврипидовская. – Е.С.] шаль с плеч Федры и возложившего с нежностью, как подобает русскому поэту [т. е. по примеру Пушкина в “Цыганах”. – Е.С.], звериную шкуру на всё еще зябнущего Овидия» (II, 75).
829
Так же и оперной Эвридике предстоит покинуть Аид («Ничего, голубка Эвридика, / Что у нас холодная зима»), а державинской ласточке – ожить с приходом весны («И живая ласточка упала / На горячие снега»).
830
Нижеследующий разбор этого текста вобрал в себя ряд наблюдений моих виртуальных собеседников – К. П. Юдина, который указал на релевантные строки Шекспира и Кюхельбекера, и К. В. Елисеева, который выявил идиоматическую подкладку стихотворения. Приношу благодарность им обоим.
831
«Tu proverai sì come sa di sale / lo pane altrui, e come è duro calle / lo scendere e ’l salir per l’altrui scale» (Par. XVII, 58–60) (пер. М. Лозинского: «Ты будешь знать, как горестен устам / Чужой ломоть, как трудно на чужбине / Сходить и восходить по ступеням»). Примечательно, что в качестве классического примера изгнанника Каччагвида упоминает Ипполита, гонимого мачехой, который в мифопоэтике Мандельштама был одним из главных воплощений растерзанного поэта-теурга.
832
Есть основания считать, что Мандельштам и ранее реминисцировал знаменитый дантовский образ. Первое его отражение, как полагают М. Б. Мейлах и В. Н. Топоров [1972: 64], появляется в стихотворении «Отравлен хлеб и воздух выпит…» (1913). Это подтверждается тем соображением В. И. Хазана [1992: 254], высказанным безотносительно к Данте, что Иосиф, проданный в Египет, аналогичен изгнаннику; в качестве типологической параллели Хазан цитирует заметку Шкловского «Гибель “русской Европы”» (1924), где в дантовскую парафразу вводится эпитет хлеба отравленный: «Я ел отравленный хлеб изгнания» [Шкловский 1990: 190]. О. Ронен отметил общий мотив полыни, привносимый в крылатую формулу в строке Ахматовой «Полынью пахнет хлеб чужой» («Не с теми я, кто бросил землю…») и строке Мандельштама «Кому зима – полынь и горький дым к ночлегу» (Кому зима – арак и пунш голубоглазый…») [Ronen 1983: 279] (сама по себе дантовская реминисценция у Ахматовой отмечалась и ранее [Мейлах, Топоров 1972: 64]). Текст Ахматовой датирован июлем 1922 г., а текст Мандельштама опубликован уже в августе 1922 г. и в одном из списков датирован 1921 годом (I, 578), т. е., судя по всему, написан раньше ахматовского. Можно предположить, что Ахматова угадала в стихах Мандельштама отсылку к Данте и подхватила мандельштамовскую инновацию (у Мандельштама, вероятно, – в качестве отсылки к апокалиптической звезде; ср. далее: «С собакой впереди идти под солью звезд»). В первой редакции «Разговора о Данте» читаем: «В понимании Пушкина, которое он свободно унаследовал от великих итальянцев, поэзия есть роскошь, но роскошь насущно необходимая и подчас горькая, как хлеб. | Dà oggi a noi la cotidiana manna» (II, 413). Цитируемый Мандельштамом стих (Purg. XI, 13) подставляет манну на место хлеба в евангельскую формулу: ‘Манну насущную даждь нам днесь’. По мнению комментаторов, библейская характеристика манны как сладкого белого хлеба (Исх. 16: 31) «объясняет, откуда у М[андельштама] появляется “горький хлеб” – в противопоставлении к подразумеваемому сладкому хлебу, манне. “Горький хлеб”, в свою очередь, отсылает к канонизированному переводу знаменитой цитаты из “Комедии”: “sa di sale [lo] pane altrui” (Par. XVII, 58), ‘солон (отдает солью, имеет соленый привкус) хлеб других (областей, городов и т. п.)’, обычно осмысляемой как ‘горек чужой хлеб (т. е. данный тебе другими)’. Ср., в частности, перевод этого места “Чистилища” в книге [И.] Скартаццини [“Данте” (Пер. О. А. Введенской. Под ред. Д. К. Петрова. – СПб., 1905. – С. 63)]: “Как горек хлеб чужой и полон зла, / Узнаешь ты, и попирать легко ли / Чужих ступени лестниц без числа”» [Степанова, Левинтон 2010: 715]. Ср., помимо пушкинских упоминаний о горьком хлебе (см. далее), слова Герцена из очерка «Вторая встреча» (1836) (их приводит А. А. Илюшин [1968: 151]): «Когда Дант был в раю – торжествуя ли в своей Firenze или будучи в ссылке, “испытывая горечь чужого хлеба и крутизну чужих лестниц”?» [Герцен 1954: 129]. Ср. также реминисценцию пророчества Каччагвиды в стихотворении Бальмонта «Данте. Видение» (кн. «В безбрежности», 1895), которое привлекает к анализу «Слышу, слышу ранний лед…» Л. Г. Панова [2009: 106]: «И ты поймешь, как горек хлеб чужой, / Как тяжелы чужих домов ступени, / Поднимешься – в борьбе с самим собой, / И вниз пойдешь – своей стыдяся тени». В этой же связи отмечалось наличие горького хлеба изгнания в идиоматике прозы Н. Я. Мандельштам [Baines 1976: 185].
833
См. [Амелин, Мордерер 2001: 237–238], [Гардзонио 2004].
834
Эти строки, возникшие на рубеже 1824–1825 гг., отмечены несомненным влиянием элегии А. С. Норова «Предсказания Данта», опубликованной в «Литературных листках» (СПб., 1824. Ч. 1, кн. 5. С. 175) и снабженной примечанием: «Кроме первого и последнего терцетов, все прочие суть собственные слова Данте, переведенные мной из XVII песни его Поэмы: Рай» (цит. по [Серков 1989: 20]). Ср.: «Ты должен испытать средь многих злоключений, / Сколь горек хлеб чужой, как тяжело стопам / Всходить и нисходить чужих домов ступени!..» (Норов) → «Не испытает м<альчик> мой <…> Сколь черств и горек хлеб чужой, / Сколь тяжко <медленной> ногой / Всходить на чуждые ступени» (Пушкин). Позднейшие переводы Норова из Данте заслужили неодобрительный отзыв Пушкина в наброске ненаписанной статьи [Пушкин 1962–1966: VII, 49].
835
Согласно осторожному предположению С. Гардзонио [2004: 253], образ несладкого хлеба изначально не имел отношения к Данте, поскольку в первой редакции стихотворения строфа с образом черствых лестниц отсутствовала (см. [Мандельштам 1993–1999: III, 347]). На это можно возразить: негативный эпитет несладкий, грамматически весьма характерный для Мандельштама, тем не менее выполняет вполне определенную задачу преинтертекстуального взаимоналожения двух своих эквивалентов, не совпадающих друг с другом: несладкий хлеб Мандельштама эквивалентен и соленому хлебу Данте (ср. оксюморон солено-сладкий в «итальянских» стихах 1933 г.), и горькому хлебу Пушкина. Соленый хлеб итальянского оригинала именуется горьким в некоторых французских переводах, – см. [Dante 1811: 109], а также «Историю итальянской литературы» Женгене, которой пользовался Пушкин (правда, в описи библиотеки Пушкина интересующий нас том II отсутствует [Модзалевский 1910: 239–240]): «Tu éprouveras combien est amer le pain d’autrui, et combien il est dur de descendre et de monter les degrés d’une maison étrangère» [Ginguene 1820: 200]. Отказ русских переводчиков от оригинального эпитета (возможно, объясняемого тем, что после изгнания из рая люди обречены есть хлеб в поте лица), очевидно, был вызван безусловно положительными коннотациями семантической пары ‘хлеб + соль’ в русской культурной традиции; ср. способ сохранить оригинальную вкусовую характеристику чужого хлеба в «Умирающем Тассе» (1817) Батюшкова: «…Младенцем был уже изгнанник; / Под небом сладостным Италии моей / Скитаяся как бедный странник, / Каких не испытал превратностей судеб? <…> Где мой насущный хлеб / Слезами скорби не кропился?» (реминисценция Данте в этом месте элегии не раз отмечалась; см., напр., [Мейлах, Топоров 1972: 64]). См. также цитированный выше комментарий Л. Г. Степановой и Г. А. Левинтона [2010: 715], подсказывающий истолкование несладкого хлеба как противопоставляемого библейской манне.
836
Возможно, именно об этом издании пишет Н. Я. Мандельштам: «… мальчик Вадик, сын воронежской театральной портнихи, у которой мы снимали комнату в последнюю зиму <…> завладел Пушкинским однотомником, который я привезла из Москвы, и объяснил товарищу, что такое поэма» [Мандельштам Н. 1990: 346].
837
На статью Винокура, которая в самом деле, возможно, послужила своего рода «триггером» к реминисценции монолога Алеко в «Слышу, слышу…», указывает Л. Г. Панова [2009: 107], при этом, однако, ошибочно полагая, что слова Алеко о том, сколь черств и горек хлеб чужой, впервые были обнародованы в этой статье и что, следовательно, она и была источником знакомства Мандельштама с пушкинским текстом.
838
См. анализ дантовской цитаты в «Пиковой даме»: [Илюшин 1968: 150].
839
«На скале черствее хлеба – молодых тростинки рощ» («Улыбнись, ягненок гневный с Рафаэлева холста…», 9 янв.); «Губы жарки, слова черствы» («Средь народного шума и спеха…», янв.).
840
«О, переход из полдня к черствой келье!» («Речка, распухшая от слез соленых…», 1933) [Мандельштам 1993–1999: III, 321]; «Феррара черствая <…>» («Ариост», 1933; 1935).
841
Эта дантовская цитата у Кюхельбекера отмечалась не единожды – см. [Серков 1989: 25], [Асоян 1990: 34]. Используя, как и его предшественники, эпитет горький, Кюхельбекер, возможно, следует не французской традиции переложений Данте, а фразе из «Ричарда II» (3, 1), которого он перевел годом раньше: «Bolingbroke. <…> you <…> sigh’d my English breath in foreign clouds, / Eating the bitter bread of banishment» (английские комментаторы Данте издавна цитировали эти слова Болингброка [Dante 1840: 401–402]). Ранее мотив хлеба изгнанья появлялся у Кюхельбекера в послании «К Пушкину» (1822), в контексте самоуподобления герою «Кавказского пленника»: «Увы! как он, я был изгнанник, / Изринут из страны родной / И рано, безотрадный странник, / Вкушать был должен хлеб чужой!» Ср. в исторической повести «Адо» (1824), где герой поет «заунывную песнь эстонскую»: «На брегу чужой реки / Одинок тоскую, / Грустно в дальной стороне / Воду пить чужую!..» [Кюхельбекер 1989: 339] (знаменательна аллюзия на псалом «На реках вавилонских…» – зачаток будущей разработки образа изгнанника-псалмопевца).
842
При этом «эпитет черствые перенесен от хлеба к лестницам, ступеням, видимо, по образцу дантовского сдвига: li amari / passi di fuga (Purg. XIII, 118–119) ‘горькие шаги бегства’» [Степанова, Левинтон 2010: 715]. Кроме того, черствая лестница очевидным образом имплицирует – по контрасту с белым ранним льдом – черную лестницу и черный ход, через который впускают и выпроваживают попрошаек. Тем самым она актуализирует семантику места мандельштамовской ссылки – Воронеж – и ретроспективно сообщает новый оттенок смысла фразе «Я на лестнице черной живу» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», 1930): современный Ленинград предстает городом изгнания по отношению к призрачному Петербургу – городу детства («детских припухлых желез»). (К мотиву призрачного города в «Слышу, слышу ранний лед…» ср. [Хазан 1992: 247].) Помимо предполагаемой Г. Г. Амелиным и В. Я. Мордерер этимологизации имени Данта, образ невского зернистого гранита, который тень грызет очами, мотивировано идиомами «пожирать глазами» и «грызть гранит науки», пословицей «Видит око, да зуб неймет» и т. п. Эпитет зернистый намекает на как бы пред-хлебное состояние, контрастное черствому хлебу, и в то же время ассоциируется с отборным птичьим кормом, который достается человеческой тени симметрично тому как несладкий хлеб изгнанья достается птицам. В связи с собственно гранитом ср. в «Разговоре о Данте» рассуждение о соотношении формы и содержания в «Божественной комедии»: «…вообразите памятник из гранита, воздвигнутый в честь гранита <…>» (II, 166).
843
Эта вполне очевидная аналогия между двумя изгоями, нашедшими себе приют у дикого племени, но не обретшими душевного покоя, осталась, тем не менее, не отмеченной Вяч. Ивановым в его развернутом предисловии к «Цыганам» в венгеровском шеститомном собрании сочинений Пушкина. Иванов пишет: «Рассказ об Овидии понадобился Пушкину в экономии поэмы не только как дорогой ему лично лирический мотив или как элегическое украшение, мечтательная колоритность которого усиливает настроение пустыни и ее младенческих обитателей, для коих столетья – годы и годы – века, но и для характеристики старого Цыгана, хорега и корифея общины, которому именно этот рассказ, во всем предшествующем сцене “суда” течении поэмы, придает черты какой-то библейской важности и вместе младенческой ясности духа», и пр. [Иванов 1908: 228] (= [Иванов 1909: 153]).
844
Приведя это место в статье «Слово и культура» (1921), Мандельштам говорит: «Спасибо вам, “чужие люди”, за трогательную заботу, за нежную опеку над старым миром, который уже “не от мира сего”, который весь ушел в чаянье и подготовку к грядущей метаморфозе» (II, 49–50). Кажется, не только Мандельштам, но и пушкиноведы не обратили внимания на то обстоятельство, что туземцам было незачем доставлять зверей и рыб Овидию, чьи «Метаморфозы» оканчиваются едва ли не самой знаменитой проповедью вегетарианства в истории западных литератур.
845
В отличие от Данте, у которого речь идет о движении по ступеням в обоих направлениях, Пушкин в монологе Алеко упоминает только о подъеме – сообразно с идеей трудного действия. У Мандельштама Алигьери показан статично, воспевающим далекую Флоренцию с двух крайних точек, соединенных подразумеваемым подъемом / спуском: с высшей точки («с черствых лестниц») и с низшей («с площадей»).
846
Этот повтор был отмечен как характерный в рецензии Гумилева на «Четки» [Гумилев 1914: 37].
847
О преемственности темы холода у Ахматовой по отношению к Комаровскому см. в статье В. Н. Топорова (значительно расширенный вариант первой части работы [Топоров 1979]) в изд.: [Комаровский: 304–305].
848
См. [Комаровский 2000: 457].
849
См. [Королева 1998: 750–751].
850
Во всяком случае, об этом свидетельствуют воспоминания С. Маковского (1962), которые процитирую вслед за В. Н. Топоровым [Комаровский 2000: 282]: «…Эти гарпии, баснословные когтистые орлы-кровопийцы, еще страшнее, оттого что в них преобразились царскосельские черные лебеди, машущие крыльями, – они вылетели из сердца поэта, вспомнившего свое безумие…» [Маковский 2000: 240].
851
См.: «Emilia. What did thy song bode, lady? / Hark, canst thou hear me? I will play the swan. / And die in music. (Singing)Willow, willow, willow» (V, 2).
852
С царскосельскими лебедями (как памятными поэту и, возможно, воскрешенными в его памяти мемуарным очерком Н. Оцупа) идентифицирует мандельштамовских неотвязных лебедей Г. А. Левинтон [1998: 735].
853
Одним из «триггеров», актуализирующих текст Ахматовой в восприятии Мандельштама, могло послужить слово лук; ср. слова Каччагвиды: «Tu lascerai ogne cosa diletta / più caramente; e cuesto è quello strale / che l’arco de lo essilio pria saetta» (Par. XVII, 55–57) (пер. М. Лозинского: «Ты бросишь все, к чему твои желанья / Стремились нежно; эту язву нам / Всего быстрей наносит лук изгнанья»).
854
В связи с интертекстуальным мотивом угрожающих или настырных птиц см. также строки Ахматовой, предшествующие рассмотренным: «Не с тобой ли говорю / В остром крике хищных птиц». По поводу этого места как объекта цитации в «Слышу, слышу ранний лед…» В. И. Хазан [1992: 230] приводит фразу из «Разговора о Данте»: «У Данта была зрительная аккомодация хищных птиц <…>» (II, 179–180).
855
См. об этом, в частности, [Асоян 1990: 148–181].
856
Правда, в своих построениях Иванову случалось и пропускать стадию нисхождения как передачи поэтической эстафеты, представляя импульс к восхождению как исходящий непосредственно от восходящего предшественника: «…как, по слову Языкова, | – гений радостно трепещет, | Свое величье познает, | Когда пред ним горит и блещет | Иного гения полет, – | так вид восхождения будит в наших темничных глубинах божественные эхо дерзновенной воли и окрыляет нас внушением нашего “забытого, себя забывшего” могущества» («Символика эстетических Начал» (= «О нисхождении»), 1905) [Иванов 1971–1987: I, 823]. Иванов цитирует стихотворение Языкова «Гений» (1925), где речь идет о библейском Елисее, который был свидетелем вознесения на небо своего учителя пророка Илии, после чего сам стал пророком (4 Цар. 2). С точки зрения модели Иванова библейская схема инверсионна, ведь Илия вознесся, уже будучи пророком, т. е. уже совершив акт нисхождения. Это обстоятельство входит в явное противоречие с утверждаемым далее в той же статье: «Нас пленяет зрелище подъема, разрешающегося в нисхождение» [Там же: I, 826]; «Мы, земнородные, можем воспринимать Красоту только в категориях красоты земной. <…> Оттого наше восприятие прекрасного слагается одновременно из восприятия окрыленного преодоления земной косности и восприятия нового обращения к лону Земли. <…>» [Там же: I, 826–827]. Впрочем, эти морфологические нюансы второстепенны по отношению к самой концепции поэтической преемственности, осуществляемой через последовательность восхождений и нисхождений. Эта концепция была надежно фундирована романтическим дискурсом о поэте-пророке. Наряду с языковским «Гением» здесь уместно вспомнить начало неоконченного пушкинского стихотворения 1832 г., обращенного к Гнедичу (приняв, однако, во внимание, что версия Гоголя о другом адресате – царе Николае – была научно опровергнута лишь в начале ХХ в.): «С Гомером долго ты беседовал один; / Тебя мы долго ожидали; / И светел ты сошел с таинственных вершин, / И вынес нам свои скрижали».
857
Об учении Иванова Мандельштаму могла напомнить, между прочим, уже цитировавшаяся (см. введение и гл. VII) статья Н. К. Гудзия «Тютчев в поэтической культуре русского символизма», где его изложению и примерам его претворения на практике уделено сравнительно много места. В частности, сказано следующее: «…мысли о существе подлинной красоты как моментов [sic!] чередования восхождения и возврата, нисхождения, Вяч. Иванов иллюстрирует почти исключительно цитатами из стихотворений Тютчева <…>, так что можно предположить, что и сама философема Вяч. Иванова, представляя собой в своем существе своеобразную комбинацию эстетических суждений Шиллера, Гегеля и Ницше, была у него в значительной мере поддержана и эстетической концепцией Тютчева. | Начальный акт отрыва от земного праха, акт восхождения самим Вяч. Ивановым воплощен в стихотв. “Разрыв” <…> “Но отрешенный белый разрыв с зеленым долом – еще не красота. […] Достигнув заоблачных тронов, Красота обращает лик назад – и улыбается земле”, – так дополняет Вяч. Иванов мысль, выраженную в приведенных стихах. Вслед за этим утверждением идет подкрепляющая его цитата из Тютчева <…> Второй акт – примирение земного и небесного в порыве инстинкта любви – поэтически выражен Вяч. Ивановым в стихотв. “Возврат” <…> Здесь как будто нарушена последовательность обоих моментов: акту восхождения предшествует акт нисхождения, но ясно, что то и другое происходит непрестанно чередуясь, и поэт волен был начать свое созерцание с любого из этих двух моментов» [Гудзий 1930: 506]. Вероятность того, что статья Гудзия попала в поле зрения Мандельштама и привлекла его внимание, возрастает ввиду того, что он и сам в ней упомянут в ряду поэтов-несимволистов, испытавших влияние Тютчева.
858
Ср.: «Существеннейшая особенность поэтической тематики, или, пользуясь гумилевским термином, “эйдолологии” акмеизма, – преодоление противоположностей не только в области культурно-исторической, то есть общественной (например, между “избранниками” и “толпой”), но и в естественно-исторической, в частности биологической» [Ронен 2010]. Как представляется, система Иванова обеспечила Мандельштама интеллектуальным инструментарием, который открывал новый путь мифологической экспансии для одного из определяющих императивов акмеизма – одушевляющего сочувствия по отношению к неодушевленным предметам, унаследованного акмеистами от Анненского (см. [Ронен 2007: 226–241], [Кихней 2009: 41–44], [Аникин 2011: 40–41] и др.) (еще предстоит изучение роли великих писателей бидермайера – Гофмана и особенно Андерсена как автора сказок – в формировании обсуждаемых аспектов поэтики Анненского и его «учеников»). В некотором роде творчество Мандельштама нейтрализует напряжение между «двумя нравственными полюсами русского символизма», по выражению О. Ронена, который так описывает эти два полюса: «Жалость к миру феноменов, к миру явлений – та основная черта поэтической этики Анненского, которая делает его антиподом Вячеслава Иванова, певца спасительной безжалостности, отвергавшего и “организованную жалость” Владимира Соловьева и “Шопенгауэрову мораль о солидарности сострадания”» [Ронен 2007: 239]. Ср. проведенную А. А. Морозовым [Мандельштам 1974: 259] аналогию между отзывом Мандельштама на книгу Вяч. Иванова «По звездам» в письме к Иванову от 13 (26) августа 1909 г. и мыслью рецензента К. Эрберга (Сюннерберга), противопоставившего книгу Иванова и «Вторую книгу отражений» Анненского: «Два диаметрально противоположных принципа лежат в основании критических работ двух прошедших перед нами авторов. У одного – уверенность и синтез нашедшего, у другого – безнадежность и анализ ищущего. Один летит “по звездам”, верит в звезды и при свете звездных лучей спокойно глядит на realia. Другого же – “звезды, как они ни сверкай и ни мерцай”, не всегда-то успокоят. Ибо в “сомнительных уголках” и на дне соблазнительных, иронически зияющих бездн вспыхивают и сгорают иногда такие солнца, такие солнца…» [Эрберг 1909: 62].
859
Вспоминается фантазия Державина: «Цирцея от досады воет, / Волшебство все ее ничто; / Ахеян, в тварей превращенных, / Минерва вновь творит людьми: / Осклабясь, Пифагор дивится, / Что мнение его сбылося, / Что зрит он преселенье душ: / Гомер из стрекозы исходит / И громогласным, сладким пеньем / Не баснь, но истину поет» («На приобретение Крыма», 1784).
860
Е. А. Тоддес [2008] предполагает, что «суждение в одном из фрагментов, относящихся к “Разговору о Данте”: “Батюшков (записная книжка нерожденного Пушкина) погиб оттого, что вкусил от Тассовых чар, не имея к ним Дантовой прививки”, – представляет собой некую проекцию стихотворения “Не искушай чужих наречий…” (или вообще коллизии иноязычия, как она была переживаема в 1932–33)». Еще раньше сходные выводы прозвучали в весьма убедительной статье О. В. Зубакиной [2004]. Незримое присутствие Батюшкова в «Не искушай чужих наречий…» подтверждается следующими выкладками. Заключительный образ «русалочьего поэта» (определение, данное Н. Я. Мандельштам [1990: 202] чудовищ[у] с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз) возвращает нас к ранним стихам Мандельштама: «В непринужденности творящего обмена / Суровость Тютчева – с ребячеством Верлена, / Скажите – кто бы мог искусно сочетать, / Соединению придав свою печать? / А русскому стиху так свойственно величье, / Где вешний поцелуй и щебетанье птичье!» (1909?) (по бесспорному наблюдению А. А. Морозова [Мандельштам 1974: 269], попытка сочетания признаков поэзии Тютчева и Верлена была предпринята в стихотворении 1909 г. «На темном небе, как узор…»). Идея синтетического поэта, воссоздаваемого по-русски, восходит к письму Батюшкова Гнедичу от 29 декабря 1811 г.: «Возьмите душу Виргилия, воображение Тасса, ум Гомера, остроумие Вольтера, добродушие Лафонтена, гибкость Овидия: вот Ариост! И Батюшков, сидя в своем углу, с головной болью, с красными от чтения глазами, с длинной трубкой, Батюшков, окруженный скучными предметами, не имеющий ничего в свете, кроме твоей дружбы, Батюшков вздумал переводить Ариоста!» [Батюшков 1885–1887: III, 170]. Этот пассаж, возводимый исследователем к Вольтеру [Пильщиков 2003: 102–104] и предвосхищающий фантазии Агафьи Тихоновны и Козьмы Пруткова, чрезвычайно близок по мысли одному из фрагментов йенских романтиков (1798): «…Если бы существовало искусство сливать воедино индивидов <…>, то я хотел бы видеть соединенными Жан-Поля и Петера Леберехта. Как раз то, чего недостает одному, есть у другого. Гротескный талант Жан-Поля и фантастический склад Петера Леберехта в их соединении дали бы превосходного романтического поэта» [Шлегель 1983: I, 297]; см. анализ этого и сходных высказываний Ф. Шлегеля: [Тодоров 1998: 195 сл.]. (Кстати, не обратный ли сюжетно-риторический ход – возвращение поэтам их качеств – мы видим в «Дайте Тютчеву стрекозу…»?) Предполагаемая О. А. Лекмановым [2000: 99] аллюзия на стихотворение Брюсова «Измена» (1895) («О, милый мой мир: вот Бодлер, вот Верлен, / Вот Тютчев, – любимые, верные книги!») даже и без учета батюшковского подтекста кажется более чем сомнительной.
861
См. также эссе О. Ронена «Не-я» [Ронен 2007: 226–241].
862
Здесь нет надобности специально задерживаться на традиционной метапоэтической корреляции мотивов ходьбы и метрической стопы и ее многократно обсуждавшейся актуальности для Мандельштама.
863
Показательно, что в «Стихах о неизвестном солдате», самом длинном из оригинальных стихотворных сочинений Мандельштама, наряду с вышеупомянутым основным гипотекстом, угадываются и другие – например, миф об украденных городах (см. гл. VII) и собственно концепция трансцензуса (опрозрачнивания) (см. гл. VIII).

Перед вами не сборник отдельных статей, а целостный и увлекательный рассказ об английских и американских писателях и их книгах, восприятии их в разное время у себя на родине и у нас в стране, в частности — и о личном восприятии автора. Книга содержит материалы о писателях и произведениях, обычно не рассматривавшихся отечественными историками литературы или рассматривавшихся весьма бегло: таких, как Чарлз Рид с его романом «Монастырь и очаг» о жизни родителей Эразма Роттердамского; Джакетта Хоукс — автор романа «Царь двух стран» о фараоне Эхнатоне и его жене Нефертити, последний роман А.

В новой книге Александра Скидана собраны статьи, написанные за последние десять лет. Первый раздел посвящен поэзии и поэтам (в диапазоне от Александра Введенского до Пауля Целана, от Елены Шварц до Елены Фанайловой), второй – прозе, третий – констелляциям литературы, визуального искусства и теории. Все работы сосредоточены вокруг сложного переплетения – и переопределения – этического, эстетического и политического в современном письме.Александр Скидан (Ленинград, 1965) – поэт, критик, переводчик. Автор четырех поэтических книг и двух сборников эссе – «Критическая масса» (1995) и «Сопротивление поэзии» (2001)

Исследование Ольги Ладохиной являет собой попытку нового подхода к изучению «филологического романа». В книге подробно рассматриваются произведения, в которых главный герой – филолог; где соединение художественного, литературоведческого и культурологического текстов приводит к синергетическому эффекту расширения его границ, а сознательное обнажение писательской техники приобщает читателя к «рецептам» творческой кухни художника, вовлекая его в процесс со-творчества, в атмосферу импровизации и литературной игры.В книге впервые прослежена эволюция зарождения, становления и развития филологического романа в русской литературе 20-90-х годов XX века.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
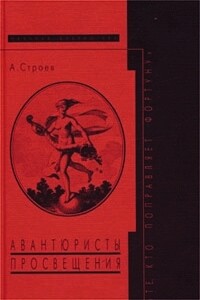
Книга, подготовленная в Отделе классических литератур Запада и сравнительного литературоведения ИМЛИ РАН, посвящена знаменитым авантюристам и литераторам, побывавшим в XVIII в. в России: Казанове, Калиостро, д’Эону, Бернардену де Сен-Пьеру, Чуди, Фужере де Монброну, братьям Занновичам и др. Поскольку искатели приключений сознательно превращают свою жизнь в произведение искусства, их биографии рассматриваются как единый текст и сопоставляются с повествовательными моделями эпохи (роман, комедия, литературный миф, алхимия, игра)

Виталий Иванович Бугров, заведующий отделом фантастики журнала «Уральский следопыт» был не просто редактором, библиофилом и библиографом фантастики. Его перу принадлежит множество статей и очерков, посвящённых малоизвестным страницам отечественной и зарубежной фантастики. Лучшие очерки и статьи Виталия Бугрова собраны в этой книге.© Sawwin * * *В книгу уральского критика и литературоведа вошли очерки и этюды из истории фантастики, как новые, так и ранее публиковавшиеся.Книга адресована юношеству.* * *Переиздание сборника «В поисках завтрашнего дня» с добавлением нескольких новых статей и дополнениями в некоторых старых.