Гений места - [4]
Все кино в целом воспринималось как ритуал новой разумной религии — и любопытно, что сейчас в Штатах бывшие кинохрамы, заброшенные прокатом за нерентабельностью, часто используются именно как молельные дома разных протестантских конгрегаций. В тяжелых бронзовых рамах для афиш — расписание богослужений. Современные «мультиплексы» с дюжинами кинозалов функциональны и удобны, но неказисты, не говоря уж о том, что иногда помещаются просто под землей. Прежде снизу вверх смотрели не только на экран, но и на кинотеатр. Те соборы сейчас словно стоят на приколе, как легендарная «Куин Мэри» в Лонг-Бич, поражая размерами, роскошью витражей и зеркал, богатством орнаментов в стиле арт-деко, блеском меди и позолоты, — только над входом не красавец в цилиндре, а надпись «Господи спаси!»
Чаплин знал размеры своей славы: в 21-м, приехав в Лондон, он за три дня получил семьдесят три тысячи писем. В том же году после показа «Малыша» в Нью-Йорке с него сорвали костюм, разодрав на клочки-сувениры. Характер славы тоже был ясен Чаплину: «Меня давно влечет история другого персонажа — Христа. Мне хочется сыграть главную роль самому. Конечно, я не намереваюсь трактовать Христа как традиционную бесплотную фигуру богочеловека. Он — яркий тип, обладающий всеми человеческими качествами». За атеистическими клише просматривается ревность соперника. Архетипом, во всяком случае, Чаплин себя ощущал: среди его замыслов, помимо Христа, — Гамлет, Швейк, Наполеон. Вкус или обстоятельства побудили его осуществить лишь травестию величия — Гитлера в «Великом диктаторе».
Что до героя-одиночки, то им, не возносясь на исторические высоты, Чаплин был всегда. И тут он лишь продолжил традицию, существовавшую и прежде. Он вообще не был революционером, всей своей жизнью утверждая ценность ремесла, убеждая, что гений — не только первооткрыватель, гений — и тот, кто все делает лучше всех.
Чаплин лучше всех падал и давал оплеухи. Уже в феврале 1914 он нашел свой визуальный образ — в фильме «Детские автогонки в Венисе». Сейчас Венис — самый оживленный пляж не только в Лос-Анджелесе, но и во всей Америке, и непременно по настилу вдоль океана семенит очередной любитель в котелке с тросточкой. Костюм Чаплин не менял три десятилетия, и, по сути дела, не менялся образ.
Тут следует сказать важное: кино — это Калифорния, американский запад.
Если б волею судеб кинематограф обосновался в Новой Англии, он оказался бы совершенно иным. Но, видимо, такое и не могло произойти — пуритане не уважали актерства, и это на востоке придумали законы, в силу которых американское телевидение и пресса по сей день самые целомудренные во всем западном мире, про Россию и говорить нечего.
Так или иначе, дух Калифорнии, дух запада определил господствующий — нет, не жанр, а способ мышления кино, его мировоззрение, потому что вестерн — это позиция. В центре вестерна — личность, берущая игру на себя: не оттого, что другого выхода нет, а оттого, что искать его не приходит в голову. Такой человек всегда экзистенциально одинок. Герой вестерна асоциален, даже если преследует общественно-полезные цели.
То-то произвела ошеломляющее впечатление на советских людей «Великолепная семерка», в которой семь одиночек освобождали мексиканскую деревню от бандитов. Это был первый настоящий вестерн, показанный нашему поколению (сразу после войны в числе трофейных фильмов был и выдающийся «Дилижанс», и другие представители жанра). Это был второй в моей жизни фильм «Детям до 16 лет воспрещается…», на который я прошел самостоятельно в свои тринадцать (первый — «Рокко и его братья» Висконти, неплохое начало). В памяти все запечатлелось до мельчайших деталей, и сейчас можно оценить, как нам повезло с «Семеркой»: советский прокат выбрал образец из самых лучших. Какое созвездие: Юл Бриннер, Стив Мак-Куин, Чарлз Бронсон, Джеймс Кобурн, Эли Уоллак! Какая походка! Какие синие рубахи! Какая сверкающая лысина под черной шляпой Криса! Какие слова: «Ты никогда не устаешь, оттого что слышишь свой голос?»
На юрмальской станции Меллужи мы истыкали ножами все сосны в дюнах и надолго забросили безнадежно коллективистский футбол. Валерку Пелича, худого длиннолицего полухорвата, прозвали Бриттом: он переламывался при ходьбе, как Кобурн, и так же кривил рот. Имя забыли: обе жены и обе дочки звали его Бриттом. Прозвище оказалось судьбой: Бритт обязан был соответствовать образу и соответствовал, насколько возможно в том месте в то время. Он не дожил до тридцати, его зарезали где-то под Красноярском, и тело нашли через три месяца, когда сошел снег, жены ездили на опознание. Бритт доиграл роль, не обладая мастерством своего киношного тезки.
Вестерн — мировоззрение. Что до экрана, то поэтика вестерна универсальна для американского кино любого жанра, потому что органична для человека, пришедшего на запад за быстрым и большим успехом, — так, как это произошло с самим Чарли Чаплином.
Он-то и есть самый влиятельный представитель Дальнего Запада — стремительный, безжалостный, неунывающий. Подходя к его герою с презумпцией симпатии, не сразу замечаешь, что он лупит вовсе не только хамов и богачей. Нет видимых причин, по которым он раздает пинки чистильщику сапог и уборщику в «Банке», терроризирует целую киностудию в «Его новой работе», колет вилами приютившего его фермера в «Бродяге», подло кладет подкову в боксерскую перчатку в «Чемпионе», бьет по больной ноге потенциального (!) соперника в «Лечении».
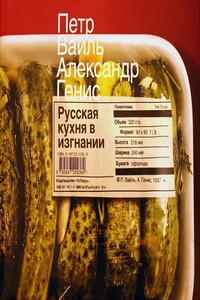
«Русская кухня в изгнании» — сборник очерков и эссе на гастрономические темы, написанный Петром Вайлем и Александром Генисом в Нью-Йорке в середине 1980-х., — это ни в коем случае не поваренная книга, хотя практически каждая из ее глав увенчана простым, но изящным и колоритным кулинарным рецептом. Перед нами — настоящий, проверенный временем и собравший огромную армию почитателей литературный памятник истории и культуры. Монумент целой цивилизации, сначала сложившейся на далеких берегах благодаря усилиям «третьей волны» русской эмиграции, а потом удивительно органично влившейся в мир и строй, что народился в новой России.Вайль и Генис снова и снова поражают читателя точностью наблюдений и блестящей эрудицией.

П. Вайль и А. Генис – русские писатели, сформировавшиеся на Западе – авторы увлекательных и тонких эссе. В своей новой книге с блеском, остроумием и изяществом авторы демонстрируют свежий и нетрадиционный взгляд на русскую литературу.Книга адресована учителям-словесникам, учащимся старших классов и всем любителям хорошей прозы.
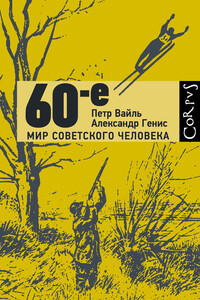
Эта книга посвящена эпохе 60-х, которая, по мнению авторов, Петра Вайля и Александра Гениса, началась в 1961 году XXII съездом Коммунистической партии, принявшим программу построения коммунизма, а закончилась в 68-м оккупацией Чехословакии, воспринятой в СССР как окончательный крах всех надежд. Такие хронологические рамки позволяют выделить особый период в советской истории, период эклектичный, противоречивый, парадоксальный, но объединенный многими общими тенденциями. В эти годы советская цивилизация развилась в наиболее характерную для себя модель, а специфика советского человека выразилась самым полным, самым ярким образом.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
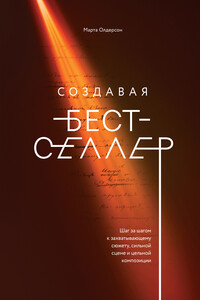
Что отличает обычную историю от бестселлера? Автор этой книги и курсов для писателей Марта Олдерсон нашла инструменты для настройки художественных произведений. Именно им посвящена эта книга. Используя их, вы сможете создать запоминающуюся историю.
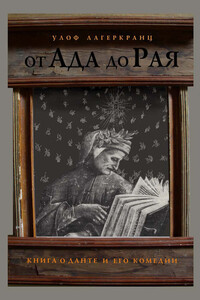
Герой эссе шведского писателя Улофа Лагеркранца «От Ада до Рая» – выдающийся итальянский поэт Данте Алигьери (1265–1321). Любовь к Данте – человеку и поэту – основная нить вдохновенного повествования о нем. Книга адресована широкому кругу читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сюжет новой книги известного критика и литературоведа Станислава Рассадина трактует «связь» государства и советских/русских писателей (его любимцев и пасынков) как неразрешимую интригующую коллизию.Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.

Оригинальное творчество Стендаля привлекло внимание в России задолго до того, как появился его первый знаменитый роман – «Красное и черное» (1830). Русские журналы пушкинской эпохи внимательно следили за новинками зарубежной литературы и периодической печати и поразительно быстро подхватывали все интересное и актуальное. Уже в 1822 году журнал «Сын Отечества» анонимно опубликовал статью Стендаля «Россини» – первый набросок его книги «Жизнь Россини» (1823). Чем был вызван интерес к этой статье в России?Второе издание.

В 1838 году в третьем номере основанного Пушкиным журнала «Современник» появилась небольшая поэма под названием «Казначейша». Автором ее был молодой поэт, чье имя стало широко известно по его стихам на смерть Пушкина и по последующей его драматической судьбе — аресту, следствию, ссылке на Кавказ. Этим поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов.