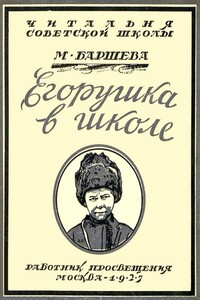Фрося Коровина - [2]
Впрочем, Аглае Ермолаевне и дома было чем заняться. Дело в том, что они с Фросей жили в памятнике. Не в статуе, конечно, а в памятнике зодчества. На нем даже висела табличка с надписью: «Жилой дом зажиточного крестьянина Федора Коровина. Начало 19 века». Дом был трехэтажный и очень красивый. Но от него постоянно что-то отваливалось, и бабушке приходилось прибивать все это назад.
Фросе вообще-то нравилось жить в памятнике, хотя кроме отваливающихся частей были и другие неудобства. Например, их дом постоянно фотографировали туристы. Сколько раз такое было: едва проснувшись, выйдет Аглая Ермолаевна на резной балкон посмотреть погоду, а ее раз — и снимут. Против того, чтобы снимали дом, бабушка ничего не имела, но попадать на фотографии в ночной рубашке совсем не хотела. А однажды корреспондент какого-то крупного издания сфотографировал, как бабушка с развевающейся шалью на плечах бежит в летнюю уборную.
После этого Аглая Ермолаевна стала местной знаменитостью, потому что ее снимок напечатали в журнале рядом с фотографиями кинозвезд. Бабушка некоторое время про это не знала, поскольку выписывала только «Сад-огород». Но после того, как журнал передал Фросе ее одноклассник Жмыхов, Аглая Ермолаевна повесила на заборе собственноручно нарисованный значок с перечеркнутым фотоаппаратом. Правда, его через несколько недель закрыла малина, и дом снова начали снимать. А потом дело и вовсе дошло до того, что у Фроси взяли интервью.
Было это так. Фрося после школы выкапывала картофель, как вдруг ее подозвала к себе девушка городского вида.
— Здравствуй, девочка, — сказала она, когда Фрося подошла с лопатой к забору. — Как тебя зовут?
— Ефросинья, — ответила Фрося. — Только я не девочка.
— А кто же ты? — удивилась девушка.
— Настоящая деревенская баба. Понятно? — И Фрося ударила черенком в землю, стряхивая с лопаты налипшие комья.
— Понятно, — ответила девушка. — Видишь ли, я журналистка и хотела бы взять интервью у зажиточного крестьянина Федора Коровина. Он дома?
— Нет, — сказала Фрося, — его нет. Он умер.
Журналистка испуганно прижала ладонь ко рту.
— Что ты говоришь?! Давно случилось это несчастье?
— Лет сто пятьдесят назад, — ответила Фрося. — А сейчас тут живет его пра-правнучка.
— Это ты?
— Нет, моя бабушка. Я на два «пра» ее младше. Но сейчас ее тоже нет, она поехала на ферму договариваться насчет навоза.
— Тогда, может, ты мне расскажешь про дом и своего дедушку?
— Пожалуйста, — кивнула Фрося. — Об этих двоих я знаю все, что нужно.
Девушка записала на диктофон Фросин рассказ, а потом он появился в газете. Там же была напечатана ее фотография с лопатой на переднем плане и домом на заднем.
После этого Фрося стала второй местной знаменитостью. И вот именно со статьи в газете началась вся эта история с домом.
Принципиальный пьяница Никанор
Примерно через неделю, когда Фрося, наконец, выкроила немного времени для уроков и села на ажурное крыльцо с учебником математики, к ее забору подошел принципиальный пьяница Никанор.
Он утверждал, что ни одна деревня не может существовать без своего пьяницы и что, поняв эту истину, он взял на себя крест пьянства и собирается его нести до конца, надеясь на сочувствие земляков. Но сочувствия не было, было явное неодобрение, потому что в Папаново кроме него никто не пил.
— Ей, Фроська! — крикнул он, облокотясь для большей устойчивости на штакетник. — Тут в газете тебя с лопатой пропечатали! Давай, я тебе газету, а ты мне стольник на пузырь. Идет?
Фрося отложила учебник и подошла к забору. Посмотрев в красное, испитое лицо Никанора, она сказала, что без всякой газеты прекрасно знает, как выглядит. И что если он сейчас не уйдет, то она ему даст не стольник, а по шее.
Конечно, Фрося преувеличила — для того, чтобы дать Никанору по шее, ей пришлось бы подставлять табуретку. Но за эти слова он здорово на нее обиделся. Исполнившись самой черной злобы, он порвал газету и бросил ее в овраг, откуда она с ручьем попала в речку Тошню и поплыла к реке Вологде. А принципиальный пьяница пошел в церковь, которая была ровно на три года моложе дома Федора Коровина.
Как ни странно, Никанор являлся самым частым ее посетителем, если, конечно, не считать служившего в церкви отца Игнатия. Там Никанор подолгу стоял перед иконами и думал, что его так же как Иисуса не понимают соотечественники, но что после его смерти они одумаются и понесут его учение по свету. А то и причислят к святым. В общем, порядочный фантазер был этот Никанор.
Войдя в деревянную церковь, он снял кепку и подошел к алтарю. Несколько минут он бездумно стоял перед ликами святых. А потом вдруг развернулся, надел кепку и вышел наружу.
Удивительно, но именно в церкви он придумал, как отплатить Фросе. Если точнее, Никанор решил навести на нее порчу. Правда, сам он наводить порчу не умел, как не умел вообще ничего в своей жизни. Зато это наверняка мог сделать лесник Филимон, обитавший за рекой Тошней.
В Папаново лесника уважали, звали «дядей» и поговаривали, что он колдун. И для этого имелись основания. Во-первых, жил Филимон в глухом лесу совершенно один. Во-вторых, был у него медведь, который умел разговаривать. Конечно, разговаривал он кое-как, а по грамотности уступал даже естественному троечнику Жмыхову. Но все-таки это был единственный доподлинно известный говорящий медведь.
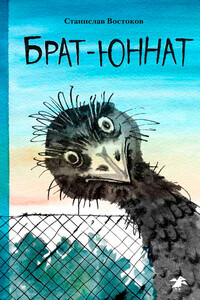
Если тебе немногим больше 14 лет, и мама против твоей поездки в кенийский национальный парк Найроби или на Мадагаскар, остаётся только прийти в зоопарк своего города, остановиться у калитки с надписью «Посторонним вход строго воспрещён!» и, набравшись смелости, спросить: – Рабочие нужны? Жизнь зоопарка за калиткой с предостерегающей надписью полна происшествий и приключений, о которых вы никогда не догадаетесь, глядя на птиц и животных в клетке из праздной толпы. В этой юмористической повести Станислав Востоков рассказывает о том, как начиналась его карьера натуралиста в 90-е годы.
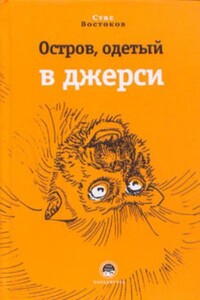
Писатель Стас Востоков очень любит зверей. А еще он с детства любит читать книги великого натуралиста и замечательного писателя Джеральда Даррелла. И — случается же такое! — любовь оказалась взаимной: Даррелл пригласил Стаса поработать в джерсийском зоопарке, в Международном обучающем центре сохранения природы. Стас, конечно, согласился и принялся вести дневник, ежедневно записывая и зарисовывая невероятные приключения русского стажера на нормандском острове… Так родилась эта книжка, которая тут же стала победителем всероссийского конкурса книг для детей и юношества «Алые паруса».

У енотовидного Криволапыча есть предназначение — бежать и бежать на Запад. Если туда бежать, то встретишь финских людей, зверей, призраков, браконьеров и угодишь во всякие истории. Характер у Криволапыча не сахар: он критикует западную «демократию», ругает Барсука за «национализм», и вообще «лезет со своим уставом в чужой монастырь». Но это не мешает ему дружить с хорошо воспитанным лисом-веганом.Множество научных сведений о животных не вредят увлекательности, а юмор будет понятен даже взрослым. Еще, как всегда у Востокова, нас встретят по-настоящему обаятельные герои.Подходит читателям 10 лет.
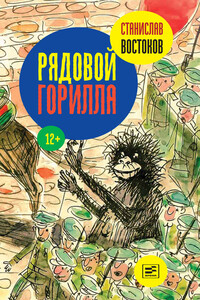
Это, конечно, сказка. И написал ее Стас Востоков лет десять назад, когда наша армия была, как он выразился, «не в форме». Так стоило ли ее печатать сейчас, когда дела армейские идут лучше? Конечно, стоило – хотя бы потому, что сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. А намеков и уроков в «Рядовом Горилле» полно, причем автор совершенно не стесняется зубоскалить по поводу самых острых тем. Солдаты у него отказываются выполнять «воинский долг неуставных отношений», армейские друзья Гориллы приезжают навестить его на ракетной установке «Град» (ничего не напоминает из совсем свежей истории?), некие «лиловые повстанцы» берут Гориллу в заложники, а американский генерал-миротворец объясняет, что в его стране «нельзя отнимать у граждан свободу на запуск ракеты».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
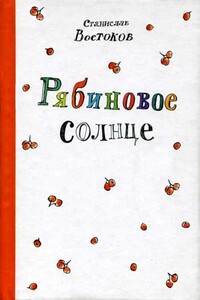
Сборник рассказов «Рябиновое солнце» продолжает лучшие традиции отечественной прозы для детей. Лирические истории Станислава Востокова и иллюстрации Марии Воронцовой наполнены любовью к природе и людям. В своей новой книге писатель и художник заставляют вспомнить красоту современной русской деревни, образ которой уже знаком читателю по сборнику «Зимняя дверь».Земля наша загадочная. Как ее ни тесни, а все же где-нибудь под самой Москвой какая-нибудь деревенька останется. И всё в ней есть: домики с огородами, яблони в саду, печки с трубами, колодцы с ведрами.
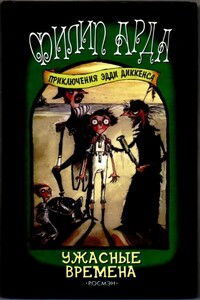
Путешествие Эдди и его компаньонки в Америку закончилось неудачно, зато сопровождалось несусветными событиями и невероятными встречами. «Ужасные времена» — последняя книга трилогии об Эдди Диккенсе.
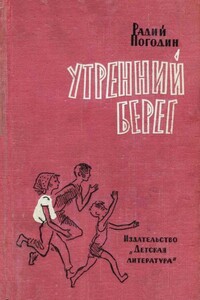
Еще нет солнца. Над морем только ясная полоса. В это время — заметили? — горизонт близко — камнем добросишь. И все предметы вокруг стоят тесно.Солнце над морем поднимается, розовое и не жаркое. Все зримое — заметили? — слегка отодвинется, но все еще кажется близким, без труда достижимым.Утренний берег — детство.Но время двигает солнце к зениту. И если заметили, до солнца 149,5 миллионов километров…
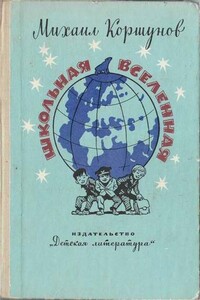
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
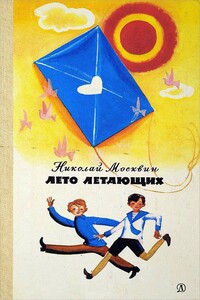
Эта повесть о мальчиках и бумажных змеях и о приключениях, которые с ними происходят. Здесь рассказывается о детстве одного лётчика-конструктора, которое протекает в дореволюционное время; о том, как в мальчике просыпается «чувство воздуха», о том, как от змеев он стремится к воздушному полёту. Действие повести происходит в годы зарождения отечественной авиации, и юные герои её, запускающие пока в небо змея, мечтают о лётных подвигах. Повесть овеяна чувством романтики, мечты, стремлением верно служить своей родине.
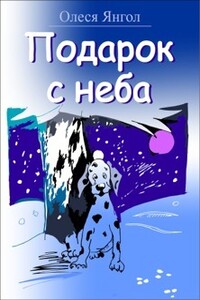
«Подарок с неба» – трогательно-добрая история о жизни, пути, о выборе ценностей, о том, чему нужно учить сначала себя, потом детей. … С неба прилетел ангел и взял мою душу. Он отнес меня прямо к Богу и тот, усадив меня на колени, сказал: «Это еще не конец истории, и ты в ней сыграешь решающую роль». Он вновь отдал меня ангелу и тот спустил меня на землю, в огромный город, где я встретил тебя. И что мне теперь с тобой делать? И какую решающую роль я должен сыграть? Бог так мне и не сказал. Для детей 5-12 лет.