Французское завещание - [74]
Несколько месяцев надо было ждать. Мне сообщили срок. Он истекал в мае. И тотчас же эти весенние дни, пока еще такие нереальные, наполнились совершенно особым светом, вырвавшись из круга месяцев и образовав некую вселенную, живущую в своем собственном ритме, в своей собственной атмосфере.
Для меня это было время приготовлений, но главное – долгих безмолвных разговоров с Шарлоттой. Теперь я бродил по улицам с таким чувством, словно рассматриваю их ее глазами. Вижу так, как увидела бы она, пустынную набережную, где тополя под порывом ветра как будто шепотом передают друг другу срочное сообщение, ощущаю, как ощущала бы она, звонкую отдачу мостовой на маленькой старой площади, провинциальный покой которой посреди Парижа таил искушение простого счастья, безбурной жизни.
Я понял, что за все три года жизни во Франции мой замысел никогда не прекращал медленно и неприметно продвигаться. От того смутного видения женщины в черном, входящей пешком в пограничный городок, мечта моя двигалась к образу более реальному. Я представлял себе, как иду на вокзал встречать бабушку, как веду ее в отель, где она будет жить, пока гостит в Париже. Потом, когда миновал период самой острой нищеты, я стал рисовать себе жилье более удобное, чем номер в отеле, жилье, где Шарлотте будет лучше…
Может быть, благодаря этим мечтам я и смог вынести и нищету, и унижение, часто жестокое, которое всегда сопутствует первым шагам в том мире, где книга, этот самый уязвимый орган нашего существа, становится товаром. Товаром, продающимся с аукциона, выставленным напоказ на прилавках, выброшенным на рынок. Моя мечта была противоядием. А «Заметки» – убежищем.
За эти месяцы ожидания топография Парижа изменилась. Как на некоторых планах, где каждый округ имеет свой цвет, город в моих глазах окрашивался в различные тона, определявшиеся присутствием Шарлотты. Были улицы, солнечная тишина которых ранним утром хранила эхо ее голоса. Были террасы кафе, у которых я спохватывался, что она устала от долгой прогулки. Там фасад, там витраж, которые под ее взглядом подергивались легкой патиной воспоминаний.
Эта воображаемая топография оставляла немало белых пятен в цветной мозаике округов. Наши маршруты чисто импульсивно обходили бы стороной архитектурные дерзания последних лет. Слишком мало парижских дней было бы в запасе у Шарлотты. Мы бы не успели приручить взглядом все эти современные пирамиды, стеклянные башни и арки. Их силуэты цепенели в странном футуристическом «завтра», которое не должно было нарушить вечного «сегодня» наших прогулок.
Точно так же я не хотел, чтобы Шарлотта увидела квартал, где я жил… Алекс Бонд, придя ко мне туда, воскликнул со смехом: «Послушайте, люди добрые, какая же это Франция, это Африка!» И пустился в рассуждения, которые напомнили мне речи невесть скольких «новых русских». Все там было: и вырождение Запада, и близкий конец белой Европы, и нашествие новых варваров («включая нас, славян», – добавил он, чтобы соблюсти справедливость), и новый Магомет, который «сожжет дотла все их Бобуры», и новый Чингисхан, «который покончит с их демократическими реверансами». Вдохновляясь непрекращающимся шествием цветного люда мимо террасы кафе, где мы сидели,, он говорил, мешая апокалипсические пророчества с надеждами на возрождение Европы за счет притока молодой крови варваров, угрозу всеобщей межэтнической войны и веру в поголовное межрасовое скрещивание… Тема увлекала его. Он, должно быть, чувствовал себя то на стороне гибнущего Запада, поскольку кожа его была белой, а культура европейской, то на стороне новых гуннов. «Нет, что ни говорите, а все же слишком много этих метеков!» – заключил он свою речь, забыв, что всего минуту назад именно им вверял спасение старого континента…
В мечтах моих наши прогулки обходили стороной этот квартал и интеллектуальную кашу, возникающую на его материале. Не потому, что его население могло бы ранить чувствительность Шарлотты. Эмигрантка по определению, она всегда жила среди предельного многообразия народов, культур, языков. От Сибири до Украины, от русского Севера до степей она повидала все разновидности человеческих рас, перемешанных империей. В войну она снова встретилась с ними в госпитале, в абсолютном равенстве перед лицом смерти, равенстве, голом, как тела в операционной.
Нет, не новое население этого старого парижского квартала могло бы неприятно поразить Шарлотту. Если я не хотел ее туда вести, то потому, что можно пройти эти улицы из конца в конец и не услышать ни слова по-французски. Кто-то видел в этой экзотике обещание нового мира, кто-то – крушение. Но нас-то интересовала бы не экзотика в архитектуре или в людях. Экспатриация в наши дни, думалось мне, есть нечто куда более глубокое.
Тот Париж, новое открытие которого я готовил Шарлотте, был Парижем неполным и даже в каком-то смысле иллюзорным. Я вспоминал мемуары Набокова, где он рассказывает про своего деда, доживавшего последние дни: с постели он видел за тяжелым занавесом сияние южного солнца и гроздья мимозы. Он улыбался, думая, что он в Ницце, а за окном весна. Не подозревая, что умирает в России, среди зимы, и что это солнце – лампа, которую его дочь ставила за занавесом, создавая для него сладостную иллюзию…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
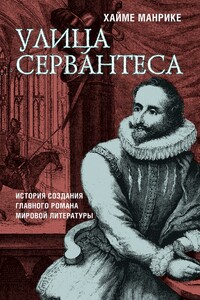
«Улица Сервантеса» – художественная реконструкция наполненной удивительными событиями жизни Мигеля де Сервантеса Сааведра, история создания великого романа о Рыцаре Печального Образа, а также разгадка тайны появления фальшивого «Дон Кихота»…Молодой Мигель серьезно ранит соперника во время карточной ссоры, бежит из Мадрида и скрывается от властей, странствуя с бродячей театральной труппой. Позже идет служить в армию и отличается в сражении с турками под Лепанто, получив ранение, навсегда лишившее движения его левую руку.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Это история о матери и ее дочке Анжелике. Две потерянные души, два одиночества. Мама в поисках счастья и любви, в бесконечном страхе за свою дочь. Она не замечает, как ломает Анжелику, как сильно маленькая девочка перенимает мамины страхи и вбирает их в себя. Чтобы в дальнейшем повторить мамину судьбу, отчаянно борясь с одиночеством и тревогой.Мама – обычная женщина, та, что пытается одна воспитывать дочь, та, что отчаянно цепляется за мужчин, с которыми сталкивает ее судьба.Анжелика – маленькая девочка, которой так не хватает любви и ласки.

Сборник стихотворений и малой прозы «Вдохновение» – ежемесячное издание, выходящее в 2017 году.«Вдохновение» объединяет прозаиков и поэтов со всей России и стран ближнего зарубежья. Любовная и философская лирика, фэнтези и автобиографические рассказы, поэмы и байки – таков примерный и далеко не полный список жанров, представленных на страницах этих книг.Во второй выпуск вошли произведения 19 авторов, каждый из которых оригинален и по-своему интересен, и всех их объединяет вдохновение.
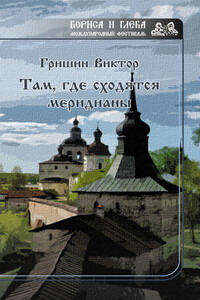
Какова роль Веры для человека и человечества? Какова роль Памяти? В Российском государстве всегда остро стоял этот вопрос. Не просто так люди выбирают пути добродетели и смирения – ведь что-то нужно положить на чашу весов, по которым будут судить весь род людской. Государство и сильные его всегда должны помнить, что мир держится на плечах обычных людей, и пока жива Память, пока живо Добро – не сломить нас.