Фотография и ее предназначения - [3]
Впрочем, этот второй ответ предполагает, что в более уверенном, менее разобщенном обществе портретная живопись может возродиться. А это представляется маловероятным. Чтобы понять почему, нам следует обратиться к третьему ответу.
Мерки нынешней жизни, перемены ее масштабов изменили природу индивидуальной идентичности. Сегодня, столкнувшись с другим человеком и глядя на него, мы видим силы, действующие в направлениях, которые до начала века невозможно было себе представить и которые стали понятны относительно недавно. Эти перемены трудно описать кратко. Тут может помочь аналогия.
Неизвестный фотограф. Фотохроника ТАСС. Начало 1950-х гг.
Мы часто слышим о кризисе современного романа. По сути говоря, это включает в себя изменение способа повествования. Теперь уже практически невозможно рассказать простую историю, последовательно развивающуюся во времени. И это потому, что мы не можем избавиться от знания о тех вещах, которые постоянно пересекают сюжетную линию. Иными словами, вместо того чтобы воспринимать точку как бесконечно малую часть прямой, мы воспринимаем ее как бесконечно малую часть бесконечного числа прямых, как центр, где сходятся лучи прямых. Подобное восприятие – результат того, что нам постоянно приходится принимать во внимание одновременность и протяженность событий, происходящих и возможных.
Тому есть множество причин: спектр современных средств коммуникации; масштаб современной власти; степень личной политической ответственности за все происходящее в мире, которую следует принимать на себя; тот факт, что мир стал неразделимым; неравномерность экономического развития в этом мире; масштаб эксплуатации. Все это играет свою роль. В наши дни предвидение включает в себя проекцию географическую, а не историческую; последствия тех или иных событий от нас скрывает не время, а пространство. Чтобы пророчествовать в наши дни, необходимо лишь знать людей такими, каковы они повсюду в мире, во всем их неравенстве. Всякое современное повествование, не берущее в расчет важности этого измерения, неполно и приобретает чересчур упрощенный характер, характер басни.
Нечто похожее, пусть не столь явное, применимо к портретной живописи. Теперь для нас неприемлемо считать, что личность человека можно адекватным образом установить, сохранив и зафиксировав его внешность, увиденную с одной-единственной точки зрения, расположенной в одном месте. (Можно возразить, что это ограничение применимо и к фотографии, однако, как отмечалось, от фотографии мы не ждем той же окончательности, что от картины.) Со времен расцвета портретной живописи наши показатели распознавания изменились. Мы по-прежнему можем полагаться на «сходство» для идентификации человека, но для того чтобы разъяснить или классифицировать его личность – уже нет. Сосредоточиваться на «сходстве» означает обосабливать по ложному принципу. Это означает предполагать, что человек или предмет весь содержится во внешней оболочке; мы же прекрасно сознаем тот факт, что ничто не может содержаться в себе целиком.
Существует несколько кубистских портретов 1911 года, где Пикассо и Брак явно осознают этот факт, однако на этих «портретах» идентифицировать модель невозможно, а потому эти полотна уже не являются тем, что мы называем портретом.
Видимо, требования, которые предъявляет современное видение, несовместимы с обособленностью точки зрения, которая является обязательным условием «сходства», написанного статичным образом. Эта несовместимость связана с более общим кризисом, затрагивающим значение индивидуальности. Индивидуальность больше не может содержаться внутри определения явно выраженных черт личности. В мире переходных состояний и революций индивидуальность превратилась в проблему исторических и социальных взаимоотношений, таких, которые не обнажить путем обычной характеризации уже установившегося социального стереотипа. Теперь каждый род индивидуальности связан со всем миром.
1967
О чем сообщает фотография
Уже больше века фотографы и их апологеты утверждают: фотография заслуживает того, чтобы считаться изобразительным искусством. Трудно понять, насколько они в этом преуспели. Подавляющее большинство людей заведомо не считают фотографию искусством, даже когда занимаются ею, любят ее, используют и ценят. Доводы апологетов (я и сам к ним принадлежу) остаются несколько академическими.
Теперь нам ясно: фотография заслуживает, чтобы к ней подходили так, словно изобразительным искусством она не является. Кажется, будто фотографии (каким бы родом деятельности она ни была) предстоит пережить живопись и скульптуру – понимаемые в том смысле, в каком они представляются нам со времен Возрождения. Как теперь видно, оно, возможно, и к лучшему, что немногие музеи проявили инициативу и открыли у себя отдел фотографии. Ведь это означает, что большинство фотографий не хранятся в священном уединении, это означает, что публика не привыкла считать, будто до фотографий ей не дотянуться. (Музеи выполняют функцию домов знати, куда в определенные часы допускают плебс. Классовый характер «знати» может быть разным, но стоит какой-либо работе оказаться в музее, как она приобретает налет
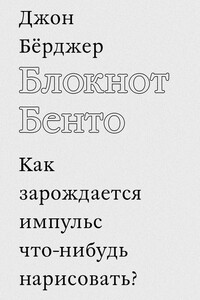
«Блокнот Бенто» – последняя на сегодняшний день книга известного британского арт-критика, писателя и художника, посвящена изучению того, как рождается импульс к рисованию. По форме это серия эссе, объединенных общей метафорой. Берджер воображает себе блокнот философа Бенедикта Спинозы, или Бенто (среди личных вещей философа был такой блокнот, который потом пропал), и заполняет его своими размышлениями, графическими набросками и цитатами из «Этики» и «Трактата об усовершенствовании разума».
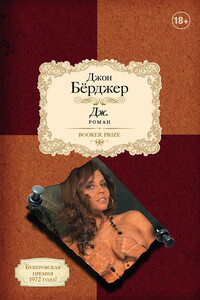
Дж. – молодой авантюрист, в которого словно переселилась душа его соотечественника, великого соблазнителя Джакомо Казановы. Дж. участвует в бурных событиях начала ХХ века – от итальянских мятежей до первого перелета через Альпы, от Англо-бурской войны до Первой мировой. Но единственное, что его по-настоящему волнует, – это женщины. Он умеет очаровать женщин разных сословий и национальностей, разного возраста и положения, свободных и замужних, блестящих светских дам и простушек. Но как ему удается так легко покорять их? И кто он – холодный обольститель и погубитель или же своеобразное воплощение самого духа Любви?..
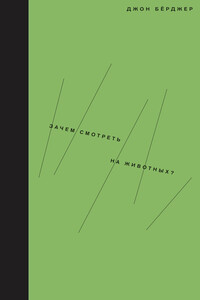
Джон Бёрджер (1926–2017) всю жизнь учился смотреть и исследовал способы видеть. В собранных в настоящем сборнике эссе он избирает объектом наблюдения животных, поскольку убежден, что смотреть на них необходимо — иначе человеку как виду не справиться со своим одиночеством. «Будучи одиноки, мы вынуждены признать, что нас сотворили, как и все остальное. Только наши души, если их подстегнуть, вспоминают первоисточник, молча, без слов». Бёрджеру удалось не только вспомнить забытое, но и найти верные слова, чтобы его выразить.
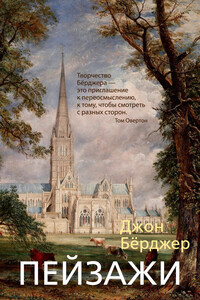
«Пейзажи» – собрание блестящих эссе и воспоминаний, охватывающих более чем полувековой период писательской деятельности англичанина Джона Бёрджера (1926–2017), главным интересом которого в жизни всегда оставалось искусство. Дополняя предыдущий сборник, «Портреты», книга служит своеобразным путеводителем по миру не только и не столько реальных, сколько эстетических и интеллектуальных пейзажей, сформировавших уникальное мировоззрение автора. Перед нами вновь предстает не просто выдающийся искусствовед, но еще и красноречивый рассказчик, тонкий наблюдатель, автор метких афоризмов и смелый критик, стоящий на позициях марксизма.

Предлагаемые тексты — первая русскоязычная публикация произведений Джона Берджера, знаменитого британского писателя, арт-критика, художника, драматурга и сценариста, известного и своими радикальными взглядами (так, в 1972 году, получив Букеровскую премию за роман «G.», он отдал половину денежного приза ультралевой организации «Черные пантеры»).

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.