Флот, революция и власть в России, 1917–1921 - [5]
Среди мемуаров сохранились воспоминания морского офицера народовольца Е. А. Серебрякова[11]; офицеров дореволюционных армии и флота, сделавших выбор в пользу Советской власти: В. А. Белли[12], М. Д. Бонч-Бруевича[13], А. М. Василевского[14], А. А. Игнатьева[15], В. П. Костенко[16]; воспоминания, базирующиеся на основе переработанного дневника И. С. Исакова[17]. К воспоминаниям этой группы примыкают рассказы С. А. Колбасьева[18], повесть и рассказы Л. С. Соболева[19], художественные произведения, основанные на личных впечатлениях их авторов.
Офицеры царского флота, ставшие на сторону белого движения, оставили значительно больше мемуаров, чем их сослуживцы, выбравшие службу под красным знаменем: здесь и видные руководители белого движения – Б. А. Вилькицкий[20], А. Г. Шкуро[21], и рядовые его участники – Г. К. Граф[22], Н. З. Кадесников[23], В. А. Меркушов[24]. К этой группе примыкают записки последнего главы флотского духовенства Г. И. Шавельского[25].
Воспоминания красного командира новой формации Ю. А. Пантелеева[26] и матроса-большевика Н. А. Ховрина[27] позволяют дополнить свидетельства других мемуаристов.
В монографии были использованы воспоминания политических деятелей: профессионального революционера, ставшего морским офицером, Ф. Ф. Раскольникова[28], большевика-подпольщика Н. И. Подвойского[29], мемуарные рассказы лидера октябристов А. И. Гучкова[30].
При написании монографии широко использовалась различная справочно-биографическая литература, например, мартирологи и списки морского офицерства, составленные В. В. Лобыцыным[31], С. В. Волковым[32], В. В. Верзуновым[33], списки различных категорий личного состава флота и репрессированных граждан[34], энциклопедические издания[35].
Отдельно следует отметить статьи, тезисы, записки, речи лидеров Советской России, определявших внутреннюю и внешнюю политику страны В. И. Ленина[36], И. В.Сталина[37], Л. Д. Троцкого[38], Г. Е. Зиновьева[39], А. И. Окулова[40] и др.
Очерченный круг источников стал основой для написания монографии.
Следует оговорить, что даты до 1 (14) февраля 1918 г. указываются по старому стилю, после этой даты – по новому. Инициалы упоминаемых нами лиц могут быть не указаны или указаны не полностью в том случае, если они не установлены или если под фамилией, упоминаемой в документе, могут подразумеваться несколько человек.
Глава I
«Человек с ружьем» и власть
Подавляющее большинство политических выступлений вооруженных сил во всем мире было организовано офицерами, то есть командным составом, и лишь в некоторых выступлениях активную роль играли солдаты и матросы. Когда армия и флот не прибегают к открытому вооруженному выступлению, а используют другие методы воздействия на гражданские структуры власти, действующими лицами могут выступать только представители командного состава.
Солдатская и матросская масса по многим причинам сравнительно редко выходит на политическую арену. В массовых вооруженных силах второй половины XIX – первой половины ХХ в., сравнительно короткие сроки службы при системе принудительного призыва[41], как правило, не дают времени солдатам и матросам осознать свои политические цели и выработать политическую программу. Сказываются национальные, культурные, религиозные, профессиональные различия, разный уровень образования и разные сроки службы. С другой стороны, молодость военнослужащих срочной службы, их небольшой жизненный опыт не позволяют большинству из них в полной мере осознать политические и экономические интересы той социальной группы, к которой они принадлежали до службы и в ряды которой вернутся после нее. На службе им сложнее организоваться и совершить вооруженное выступление, чем офицерам, определенную роль играет более низкий уровень образования солдат и матросов по сравнению с офицерами, отсутствие у них привычки к постановке задач и к руководству.
История показала, что в некоторых случаях солдатская или матросская масса все же может выступить как самостоятельный политический фактор. В ХХ в. такие выступления происходили, как правило, в ходе достаточно продолжительных войн, когда массовая мобилизация ставит под знамена большое число мужчин зрелого возраста. Они обладают жизненным опытом и выходят на определенный уровень осознания социально-политических интересов своего класса или социальной группы. В вооруженных силах «революционного типа» (об их специфических чертах речь пойдет ниже) общая политизация достигает такой степени, что выступление массы рядовых с более-менее отчетливо сформулированной программой становится достаточно вероятным.
По нашему мнению, с точки зрения места вооруженных сил в политической системе страны они могут быть отнесены к одному из трех типов, которые можно условно обозначить как «традиционный», «революционный» и «политический». Вряд ли можно найти вооруженные силы, относящиеся к одному из выделенных типов в чистом виде, однако абстрактность – неизбежное свойство любой теоретической схемы.
Вооруженные силы «традиционного» типа возникают при политическом режиме, который сохраняет стабильность на протяжении длительного времени. Главное условие, определяющее поведение личного состава таких армии и флота, – отсутствие необходимости делать политический выбор, так как существующий в стране общественно-политический строй представляется практически вечным, любые противники этого политического строя – ничтожными и бессильными изменить его. Широкие массы в подобном сравнительно стабильном обществе, как правило, не имеют ни опыта вооруженной борьбы, ни опыта участия в организованных массовых кампаниях гражданского неповиновения или забастовочном движении, часто являются политически инертными. Естественно, что солдатская и матросская масса в вооруженных силах подобного общества не будет склонна к протесту и борьбе под политическими лозунгами.
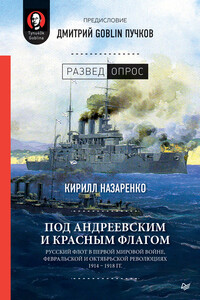
В новой книге К. Б. Назаренко, профессора Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, подробно рассматривает морское офицерство Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революций. Опираясь на синхронные источники и документы того времени, автор описывает боевые действия на море, а также жизнь и быт матросов и офицеров.Каковы были социальное происхождение и боевой опыт офицеров флота? Какие у них были взаимоотношения с властью? Сколько офицеров русского флота погибло в ходе Первой мировой войны и сколько – от рук собственных подчиненных во время революций? Какие причины послужили поводом для революционных настроений матросов?Многочисленные таблицы с характеристиками состава Российского, а затем и советского военно-морского флота, а также фотографии времен Первой мировой войны и Великой революции, представленные в книге, делают облик сражений ярким и наглядным.
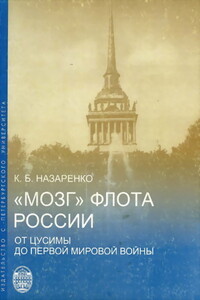
Монография посвящена истории развития структуры центрального военно-морского управления в России в 1905–1914 гг. На основе архивных материалов, воспоминаний, публицистических сочинений рассматриваются взаимоотношения различных лиц и групп внутри руководства морского ведомства, проекты реорганизации Морского министерства. Сегодня отечественный военно-морской флот переживает новый период реорганизации. Только опираясь на исторический опыт и богатые традиции русского и советского флота можно определить перспективы дальнейшего развития военно-морских сил нашей страны.Для военных историков, преподавателей, студентов и всех интересующихся как историей отечественного военно-морского флота, так и историей государственных учреждений дореволюционной России.

Чудесные исцеления и пророчества, видения во сне и наяву, музыкальный восторг и вдохновение, безумие и жестокость – как запечатлелись в русской культуре XIX и XX веков феномены, которые принято относить к сфере иррационального? Как их воспринимали богословы, врачи, социологи, поэты, композиторы, критики, чиновники и психиатры? Стремясь ответить на эти вопросы, авторы сборника соотносят взгляды «изнутри», то есть голоса тех, кто переживал необычные состояния, со взглядами «извне» – реакциями церковных, государственных и научных авторитетов, полагавших необходимым если не регулировать, то хотя бы объяснять подобные явления.

Новая искренность стала глобальным культурным феноменом вскоре после краха коммунистической системы. Ее влияние ощущается в литературе и журналистике, искусстве и дизайне, моде и кино, рекламе и архитектуре. В своей книге историк культуры Эллен Руттен прослеживает, как зарождается и проникает в общественную жизнь новая риторика прямого социального высказывания с характерным для нее сложным сочетанием предельной честности и иронической словесной игры. Анализируя этот мощный тренд, берущий истоки в позднесоветской России, автор поднимает важную тему трансформации идентичности в посткоммунистическом, постмодернистском и постдигитальном мире.

В книге рассматривается столетний период сибирской истории (1580–1680-е годы), когда хан Кучум, а затем его дети и внуки вели борьбу за возвращение власти над Сибирским ханством. Впервые подробно исследуются условия жизни хана и царевичей в степном изгнании, их коалиции с соседними правителями, прежде всего калмыцкими. Большое внимание уделено отношениям Кучума и Кучумовичей с их бывшими подданными — сибирскими татарами и башкирами. Описываются многолетние усилия московской дипломатии по переманиванию сибирских династов под власть русского «белого царя».

Предлагаемая читателю книга посвящена истории взаимоотношений Православной Церкви Чешских земель и Словакии с Русской Православной Церковью. При этом главное внимание уделено сложному и во многом ключевому периоду — первой половине XX века, который характеризуется двумя Мировыми войнами и установлением социалистического режима в Чехословакии. Именно в этот период зарождавшаяся Чехословацкая Православная Церковь имела наиболее тесные связи с Русским Православием, сначала с Российской Церковью, затем с русской церковной эмиграцией, и далее с Московским Патриархатом.

Н.Ф. Дубровин – историк, академик, генерал. Он занимает особое место среди военных историков второй половины XIX века. По существу, он не примкнул ни к одному из течений, определившихся в военно-исторической науке того времени. Круг интересов ученого был весьма обширен. Данный исторический труд автора рассказывает о событиях, произошедших в России в 1773–1774 годах и известных нам под названием «Пугачевщина». Дубровин изучил колоссальное количество материалов, хранящихся в архивах Петербурга и Москвы и документы из частных архивов.

В монографии рассматриваются произведения французских хронистов XIV в., в творчестве которых отразились взгляды различных социальных группировок. Автор исследует три основных направления во французской историографии XIV в., определяемых интересами дворянства, городского патрициата и крестьянско-плебейских масс. Исследование основано на хрониках, а также на обширном документальном материале, произведениях поэзии и т. д. В книгу включены многочисленные отрывки из наиболее крупных французских хроник.