Философические письма, адресованные даме (сборник) [заметки]
1
Исследование выполнено в рамках работ по гранту Президента РФ № МК-5033.2015.6. Тема: «Формирование украинского национализма: между Польшей и Москвой (1840–1900-е гг.)».
Данная статья является существенно расширенным вариантом одноименной статьи, опубликованной: Социологическое обозрение. – 2016, Т. 15, № 3.
2
Герцен А.И. О развитии революционных идей в России // Собрание сочинений: Б 30 т. T. VII. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 221–222.
3
Герцен А.И. Былое и думы: Части 4–5 / Коммент. Г.Г. Елизаветиной. – М.: Художественная литература, 1982. С. 111.
4
А также знаменитого памфлета «О повреждении нравов в России», который впервые опубликует уже после смерти внука автора Герцен (1858) в своей лондонской типографии, в одном томе с «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева.
5
Наталья Михайловна Чаадаева скончалась 8 марта 1797 г.
6
Жихарев М.И. Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи (Мемуары современников) / Под ред. И.А. Федосова; вступ. ст. Н.И. Цимбаева. – М.: Изд-во МТУ, 1989. С. 51.
7
Цит. по: Гершензон М.О. П.Я. Чаадаев. Жизнь и мышление // Избранное: В 4 т. T. 1: Мудрость Пушкина / Сост. С.Я. Левит, коммент. Е.Ю. Литвин, В.Ю. Проскурина. – М.; Иерусалим: Университетская книга, Gesharim, 2000. С. 384.
8
См.: Жихарев М.И. Указ. соч. С. 58, 66.
9
См.: Равич А.М. Евгений Иванович Якушкин (1826–1905). – Л.: Наука, 1989. С. 61–70.
10
Дружбой с ним он будет в особенности гордиться в старости – публикация в 1854 г. в «Московских ведомостях» (№ 71, 117, 119) «Материалов для […] биографии» Пушкина, составленных П.И. Бартеневым [см. переиздание: Бартенев П.И. О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников / Сост., вступ. ст. и примеч. А.М. Гордина. – М.: Советская Россия, 1992], в которых он не будет упомянут, вызовет крайнее раздражение со стороны Чаадаева, писавшего С.П. Шевыреву: «Бы, конечно, заметили, что описывая молодость Пушкина и года, проведенные им в Лицее, автор статей ни слова не упоминает обо мне, хотя в то же время и выписывает несколько стихов из его мне послания и даже намекает на известное приключение в его жизни, в котором я имел участие, но приписывая это участие исключительно другому лицу. Признаюсь, это умышленное забвение отношений моих к Пушкину глубоко тронуло меня. Давно ли его не стало, и вот как правдолюбивое потомство в угодность к своим взглядам хранит предания о нем! Пушкин гордился моею дружбою; он говорил, что я спас от гибели его и его чувства, что я воспламенял в нем любовь к высокому, а г. Бартеньев находит, что до этого никому нет дела, полагая, вероятно, что обращенное потомство, вместо стихов Пушкина, будет читать его Материалы» (II, 272–273). [Здесь и далее все ссылки на издание: Чаадаев П.Я. (1991) Полное собрание сочинений и избранные письма: В 2 т. / Отв. ред. З.А. Каменский. – М.: Наука, 1991 – даются в тексте, римская цифра указывает номер тома, арабская – номер страницы.]
11
Вигель Ф.Ф. Записки: Б 2 кн. Кн. 2. – М.: Захаров, 2003. С. 982.
12
Дмитриев М.А. Главы из воспоминаний моей жизни / Подгот. текста и примеч. К.Г. Боленко, Е.Э. Ляминой и Т.Ф. Нешумовой; вступ. ст. К.Г. Боленко и Е.Э. Ляминой. – М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 365.
13
Свербеев Д.Н. Мои записки / Изд. подгот. М.Б. Батищев, Т.Б. Медведева; отв. ред. С.О. Шмидт. – М.: Наука, 2014. С. 519–520.
14
См.: Жихарев М.И. Указ. соч. С. 71–80.
15
См.: Гершензон М.О. Указ. соч. С. 389–391.
16
См.: Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVTII – начало XIX века). – СПб.: Искусство-СПб., 1994. С. 346–352.
17
См.: Шаховской Д.И., кн. Якушкин и Чаадаев // Декабристы и их время. T. II. – Шаховскому удалось доказать ошибку Гершензона, последовавшего за М.И. Жихаревым, обнаружившим дневник в бумагах, оставшихся от Чаадаева, – в действительности дневник принадлежит многолетнему его другу, товарищу по Московскому университету Д.А. Облеухову, скончавшемуся в 1827 г.
18
Сестра Александра и Абрама Норовых – последний в дальнейшем, с 1853 по 1858 г., будет занимать пост министра народного просвещения.
19
Предоставляя, впрочем, душеприказчику выбор – другим вариантом было быть похороненным рядом с Екатериной Гавриловной Левашовой (ум. 1839), в доме которой на Новой Басманной Чаадаев в 1833 г. снимет флигель, из которого не переедет и после продажи дома семейством Левашовых.
20
Жихарев С.П. Записки современника: Б 2 т. T. II. – М., Л., 1934. С. 428.
21
Об этом повороте в жизни Чаадаева сохранился известный рассказ Жихарева: «Профессор Альфонский (потом ректор Московского университета), видя его в том нестерпимом для врача положении, которое на обыкновенном языке зовется „ни в короб, ни из короба“, предписал ему „развлечение“, а на жалобы: „Куда же я поеду, с кем мне видеться, как где быть?“ – отвечал тем, что лично свез его в московский Английский клуб. Б клубе он встретил очень много знакомых, которых и сам был доволен видеть и которые и ему обрадовались. Чаадаев, из совершенного безлюдья очутившийся в обществе, без всякого преувеличения мог быть сравнен с рыбой, из сухого места очутившейся в воде, с волком, из клетки попавшим в лес, пожалуй, с Наполеоном, из английского плена вдруг увидевшим себя свободным в Европе, во главе трехсот тысяч солдат. Побывавши в клубе, увидав, что общество удостаивает его еще вниманием, он стал скоро и заметно поправляться, хотя к совершенному здоровью никогда не возвращался. С тех пор, без дальних околичностей, он объявил профессора Альфонского человеком добродетельным […], своим спасителем, оказавшим ему услугу и одолжен не врача просто, а настоящего друга» [Жихарев М.И. Указ. соч. С. 85].
22
Жихарев М.И. Указ. соч. С. 107.
23
С 1833 г.
24
Свербеев Д.Н. Указ. соч. С. 528.
25
Жихарев М.И. Указ. соч. С. 80.
26
Опубликовано: Петр Яковлевич Чаадаев. Из воспоминаний современника // Вестник Европы. – 1871, № 7, 9. – Полный текст впервые опубликован в издании: Жихарев Д.И. Указ. соч. С. 48–118.
27
Цимбаев Н.И. [Комментарии] // Жихарев М.И. Указ. соч. С. 359.
28
Цимбаев Н.И. [Комментарии] // Жихарев М.И. Указ. соч. С. 359.
29
Мандельштам О.Э. (1971 [1915]) Петр Чаадаев // Собрание сочинений: В 3 т. Т. 2: Проза. Изд. 2-е, пересмотр, и доп. / Под ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова, вступ. ст. Б.А. Филиппова. – Париж: Международное литературное содружество. С. 288.
30
Чаадаев скончался 14 апреля 1856 г., а предваряющее рукопись воспоминаний письмо к сыну, А.Д. Свербееву, датировано автором 11 мая 1856 г. [текст письма приведен в комментариях к изданию «Записок»: Свербеев Д.Н. Указ. соч. С. 843–844].
31
Свербеев Д.Н. Указ. соч. С. 523.
32
Гершензон М.О. Указ. соч. С. 440.
33
Пушкин А.С. Письма. T. III. 1831–1833 / Под ред. и с прим. Л.Б. Модзалевского. – М., Л.: Academia, 1935. С. 334.
34
23 августа 1831 г. В.А. Жуковский писал А.И. Тургеневу: «Манускрипт Чаадаева он [т. е. Пушкин. – А.Т.] давал мне читать и взял его у меня, чтобы отправить к Чаадаеву. Вероятно, что он уже и получен» [Жуковский В.А. Письма В.А. Жуковского к А.И. Тургеневу. – М., 1895. С. 258]. Вопреки мнению М.И. Гиллельсона, полагавшего, что Чаадаев получил оригинал своей рукописи в августе 1831 г. [Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И. Сквозь «умственные плотины»: Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. – 2-е изд., доп. – М.: Книга, 1986. С. 172], и В.В. Сапова, предположившего (на основании письма А.И. Тургенева к Пушкину от 29 октября 1831 г., из которого ясно, что Чаадаев еще рукопись не получил), что Пушкин вернул ее Чаадаеву лично в свой московский приезд в декабре 1831 г. – еще в январе 1832 г. Чаадаев не располагал оригиналом, как явствует из недавно опубликованного письма А.П. Елагиной к Жуковскому от 11 января 1832 г., в котором она в числе прочего передает: «Также Чаадаев вас просит прислать его тетрадь, которую отдал вам Пушкин» [Переписка В. А. Жуковского и А.П. Елагиной: 1813–1853 / Сост., подгот. текста, ст. и коммент. Э.М. Жиляковой. – М.: Знак, 2009. С. 376].
35
Вацуро Б.Э., Гиллельсон М.И. Указ. соч. С. 172.
36
Официальное постановление цензурного комитета от 31 января 1833 г. см.: II, 536–538.
37
Исходный вариант этой интерпретации был представлен Гершензоном [Гершензон М.О. Указ. соч. С. 441] с более поздней датировкой, 1836 г. – уточнение датировки см.: Чаадаев П.Я. Сочинения и письма П.Я. Чаадаева / Под ред. М.[О.] Гершензона. – М.: Путь, 1914. С. 196.
38
Тарасов Б.Н. «Преподаватель с подвижной кафедры». Новое и забытое о П.Я. Чаадаеве и его современниках // Литературная учеба. – 1988, № 2; републ.: Чаадаев П.Я. Статьи и письма / Сост., вступ. ст. и коммент. Б.Н. Тарасова. – 2-е изд., доп. – М.: Современник, 1989. С. 389; II, 101–102.
39
Переписка А.С. Пушкина: В 2 т. T. 1 / Вступ. ст. И.Б. Мушиной; сост. и коммент. В.Э. Вацуро и др. – М.: Художественная литература, 1982. С. 304, письмо от 14 и 15 июля 1831 г.
Ср. схожий отзыв из письма А.И. Тургенева к брату Николаю, от 2 июля 1831 г.: Чаадаев «давал мне прочесть одну тетрадь, и я нашел много хорошего и для других нового, хотя, впрочем, я и не разделяю мнений его» (II, 308).
40
Получил рукопись «Философических писем» он всего за несколько дней до этого, впервые увидев Чаадаева с 1826 г. Брата Николая об этой встрече в письме от 2 июля 1831 г. А.И. Тургенев извещал: «Он обнял меня нежно и в первое же свидание отдал мне часть своего сочинения, в роде Мейстера и Ламенне, и очень хорошо написанное по-французски» (II, 307).
41
В последующем Чаадаев подробно выскажется по этому поводу, полемизируя с И.Б. Киреевским, отзываясь на слова последнего о «православном христианстве» («Письмо из Ардатова в Париж», 1845): «Что это за православное христианство? По сие время слыхали мы только о церкви православной, хотя, впрочем, в строгом смысле и это не что иное, как плеоназм, но плеоназм, по крайней мере, необходимый для того, чтобы различить церковь, почитающую себя православной, от тех церквей, которых таковыми не почитает; но какая, скажите, была нужда присваивать это прилагательное самому христианству? Разве может быть христианство не православное, т. е. ложное, а все-таки христианство? Разве в области вечного духа непременной правды есть место для какой-нибудь полуправды? Странно, как могли родиться в той именно духовной сфере, которая по праву называет себя единственно истинной, эта несознательность мысли, эта невнятность христианского понятия, это необдуманное сочетание слов, допускающие как будто возможность христианства хотя и не истинного, однако не теряющего через то права называться христианством [выд. нами. — А.Т.]» (I, 547–548).
42
Переписка А.С. Пушкина. Т. 2. С. 275.
43
Там же. T. 1. С. 74, письмо от 15 июля 1831 г.
44
О философии религии П.Я. Чаадаева см. сжатый, но весьма глубокий очерк: Антонов К.М. Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века. – М.: Изд-во ПСТГХ 2013. С. 37–41.
45
Дмитриев М.А. Указ. соч. С. 366, 367.
46
Вяземский П.А., кн. (1879). Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского. T. II. 1827–1851 г. Издание гр. С.Д. Шереметьева. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1879. С. 221, 222.
47
Там же. С. 214.
48
Гершензон М.О. Указ. соч. С. 439.
49
Лемке М.К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. По подлинным делам Третьего отделения Собств. Е.И. Величества канцелярии. Изд. 2-е. – СПб.: Издание С.В. Бунина, 1909. С. 413.
Поясняя мотивы императорского решения, австрийский посланник при Петербургском дворе граф Финкельмон в донесении канцлеру Меттерниху от 7.XI.1836 г. писал: «Император, исходя из того, что только больной человек мог написать в таком духе о своей родине, ограничился пока распоряжением, чтобы он был взят под наблюдение двух врачей и чтобы через некоторое время было доложено о его состоянии. Поступая подобным образом, император имел явное намерение как можно скорее прекратить шум, вызванный этим письмом» [цит. по: Вацуро Б.Э., Гиллельсон М.И. Указ. соч. С. 167].
50
См.: Жихарев М.И. Указ. соч. С. 114–115, 371.
51
Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. 4-е изд. / Предисл. прот. И. Мейендорфа. – Paris: YMCA-PRESS, 1988. С. 248.
52
Кюстин А. де. Россия в 1839 году / Пер. с фр. О. Гринберг, С. Зенкина, В. Мильчиной, И. Стаф. – СПб.: Крига, 2008. С. 75.
53
На данный момент «вопрос о том, состоялось ли личное знакомство де Кюстина с Чаадаевым […] не поддается удовлетворительному решению» [Мильчина Б.А., Осповат А.А. Комментарий к книге Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». – СПб.: Крига, 2008. С. 961, ср.: 905].
54
Мильчина B.A., Осповат А.А. Указ. соч. С. 961.
55
Там же. С. 767.
56
Струве Г.П. Русский европеец. Материалы для биографии и характеристики князя П.Б. Козловского. – Сан-Франциско: Дело, 1950. С. 39–46.
57
Цит. по: Струве Г.П. Указ. соч. С. 40.
58
Балицкий А. Россия, католичество и польский вопрос / Пер. с польск., послесл. Е.С. Твердисловой. – М.: Изд-во МТУ, 2012. С. 54, прим. 1 к стр. 53.
59
Там же. С. 37, 38.
60
Д.Н. Свербеев вспоминал о разговорах с Чаадаевым в Берне в 1824 г., во время трехлетнего заграничного путешествия последнего: «На вечерах у меня Чаадаев, оставивший службу […] и очень недовольный собой и всеми, в немногих словах выражал свое негодование на Россию и на всех русских без исключения. Он не скрывал в своих резких выходках глубочайшего презрения ко всему нашему прошедшему и настоящему и решительно отчаивался в будущем. Он обзывал Аракчеева злодеем, высших властей военных и гражданских – взяточниками, дворян – подлыми холопами, духовных – невеждами, все остальное – коснеющим и пресмыкающимся в рабстве» [Свербеев Д.Н. Указ. соч. С. 377].
61
Оценка того исторического феномена, который в последующем получил название «движения декабристов», у Чаадаева не двоится между текстами, предназначенными к опубликованию, и текстами частного характера. Так, в оставшемся неотправленным письме к И.Д. Якушкину от 2 мая 1836 г. он аналогично интерпретировал декабристов как очередной пример, подтверждающий его оценку русского настоящего, его безосновности, данную в первом «Философическом письме…»: «Ах, Друг мой, как это попустил господь совершиться тому, что ты сделал? Как мог он тебе позволить до такой степени поставить на карту свою судьбу, судьбу великого народа, судьбу твоих друзей, и это тебе, тебе, чей ум схватывал тысячу таких предметов, которые едва приоткрываются для других ценою кропотливого изучения? Ни к кому другому я бы не осмелился обратиться с такою речью, но тебя я слишком хорошо знаю и не боюсь, что тебя больно заденет глубокое убеждение, каково бы оно ни было.
Я много размышлял о России с тех пор, как роковое потрясение так разбросало нас в пространстве, и я теперь ни в чем не убежден так твердо, как в том, что народу нашему не хватает прежде всего – глубины. Мы прожили века так, или почти так, как и другие, но мы никогда не размышляли, никогда не были движимы какой-либо идеей; и вот почему вся будущность страны в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми, между трубкой и стаканом вина. Когда восемнадцать веков назад истина воплотилась и явилась людям, они убили ее; и это величайшее преступление стало спасением мира; но если бы истина появилась вот сейчас, среди нас, никто не обратил бы на нее никакого внимания, и это преступление ужаснее первого, потому что оно ни к чему бы не послужило» (II, 105–106).
62
Чтобы научиться «благоразумно жить в данной действительности», обустроить свой быт, перестав существовать так, что «в домах наших мы как будто определены на постой», Чаадаев считает возможным только поговорив «сначала еще немного о нашей стране», добавляя: «при этом мы не отклонимся от нашей темы. Без этого предисловия вы не сможете понять, что я хочу Вам сказать» (I, 324).
63
См., напр.: Балицкий А. Указ. соч. С. 53.
64
Вопреки, напр., мнению: Карпович М.М. (2012) Лекции по интеллектуальной истории России (XVIII – начало XX века) / Пер. с англ. А.И. Кырлежева; Е.Ю. Моховой; вступ. ст. Н.Г.О. Перейры; предисл. С.М. Карповича; примеч. П.А. Трибунского. – М.: Русский путь; 2012. С. 97.
65
А.И. Тургенев писал брату Николаю 2 июля 1831 г., увидев Чаадаева после более чем четырехлетнего затворничества: «Повел меня в свой кабинет и показал твой портрет между людьми, для него любезнейшими: импер [атором] Александром и Папою» (II, 307).
66
См., напр., письмо к А.Я. Булгакову от 25 июля 1853 г. (II, 266).
67
См., напр., характеристику: Чичерин Б.Н. Воспоминания: В 2 т. T. 1: Москва сороковых годов. Путешествие за границу. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2010. С. 191–192,203.
68
Ср.: Чаадаев П.Я. Неопубликованная статья / Предисл. и коммент. [кн.] Д.[И.] Шаховского // Звенья: Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. Т. III–IV / Под ред. Влад. Бонч-Бруевича, Л.Б. Камнева и А.Б. Луначарского. – М., Л.: Academia, 1934. – С. 365–390.
Данный оборот впервые встречается в письме к Шеллингу от 20 мая 1842 г. (II, 145) – в письме к Б.А. Жуковскому от 27 мая 1851 г., написанном по-русски, он, видимо, использует в качестве его русского аналога оборот «возвратное движение», «одним из ревностных служителей которого» называя К.С. Аксакова (II, 254).
69
Имеются в виду репрессивные меры правительства в отношении ряда славянофилов: арест в 1847 г. Ф.Б. Чижова, арест в 1849 г. Ю.Ф. Самарина и И.С. Аксакова и их административная ссылка, цензурный запрет в 1852 г. 2-го тома «Московского Сборника» и фактический запрет печататься, наложенный на ведущих славянофилов, в том числе на А.С. Хомякова, К.С. и И.С. Аксаковых и др. [См.: Цимбаев Н.И. Историософия на развалинах империи. – М.: Издательский дом Международного ун-та в Москве, 2007. С. 172–173; Московский сборник / Изд. подгот. Б.Н. Греков. – СПб.: Наука, 2014. С. 860–863, 917–920, 1048–1051.]
70
Основное возражение в адрес славянофилов, сформулированное Чаадаевым, напоминает последующие суждения, напр., К.Н. Леонтьева – «ретроспективная утопия», национализм славянофилов стремится, как и его предшественники, убедить в том, что русский народ – такой же народ, как и другие, тогда как он не похож на них, исключителен: «История нашей страны, например, рассказана недостаточно; из этого, однако, не следует, что ее нельзя разгадать. Мысль более сильная, более проникновенная, чем мысль Карамзина, когда-нибудь это сделает. Русский народ тогда узнает, что он такое, или, вернее, то, чего в нем нет. Он принимает себя теперь за такой же народ, как и другие; тогда, я уверен, он с ужасом убедится в своем нравственном ничтожестве; он узнает, что провидение пока еще давало ему жизнь лишь для того, чтобы иметь в его лице динамическую силу в мире, и пока еще не для того, чтобы проявить себя сознательно. Тогда мы поймем, что имеем вес на земле, но еще не действовали. Подобно тому, как народы, образовавшие новое общество, были сначала призваны на мировую арену как материальная сила и заняли свое место в порядке сознательном лишь после того, как подчинились игу его закона, точно также и мы в настоящее время представляем только силу физическую; силой нравственной мы станем тогда, когда совершим то же, что совершили они. Но когда это будет?» (I, 456, № 42-а).
71
Ин. XVII, 11.
72
Фотия.
73
1829 г.
74
«Повиновение есть истинный долг души разумной, признающей небесного владыку и победителя» (фр.) (Примеч. М. О. Гершензона.).
75
Почему древние не умели наблюдать? Потому что они не были христианами.
76
Novum Organum (ch. 68).
77
Здесь надлежит заметить две вещи: во-первых, что мы не имели в виду утверждать, будто в этой жизни содержится все Небо целиком: оно в этой жизни лишь начинается, ибо смерть более не существует с того дня, как она была побеждена Спасителем; и, во-вторых, что здесь, конечно, говорится не о слиянии вещественном во времени и в пространстве, а лишь о слиянии в идее и в принципе.
78
См. древних.
79
В таком случае уже не вера двигала бы горы, а Алгебра.
80
Спиноза.
81
Без сомнения, применения открытого Ньютоном закона в области предметов осязаемых чрезвычайны, и число их будет с каждым днем еще возрастать. Но не следует забывать, что закон падения тяжестей установлен Галилеем, закон движения планет – Кеплером. Ньютону принадлежит только счастливое вдохновение – связать воедино оба эти закона. Впрочем, все относящееся к этому славному открытию чрезвычайно важно. Немудрено, что один выдающийся геометр сожалел, что нам неизвестны некоторые из формул, которыми Ньютон пользовался при своей работе; наука, конечно, много бы выиграла от находки этих талисманов гения. Но можно ли серьезно думать, что вся сверхъестественность гениальности Ньютона, вся его мощь заключаются в одних его математических приемах? Разве мы не знаем, что в этом возвышенном уме было еще что-то, кроме способности к вычислениям? Я Вас спрашиваю, рождалась ли когда-либо мысль подобного масштаба в разуме безбожном? Истина столь величественная дана ли была когда-либо миру разумом неверующим? И можно ли представить себе, будто в то время, когда Ньютон бежал от опустошавшей Лондон эпидемии в Кембридж и закон вещественности блеснул его духу и разодралась завеса, скрывавшая природу, в благочестивой душе его были одни только цифры? Странное дело, есть еще люди, которые не могут подавить в себе улыбки жалости при мысли о Ньютоне, комментирующем Апокалипсис. Не понимают, что великие открытия, составляющие гордость всего человеческого рода, могли быть сделаны только тем самым Ньютоном, каким он был, гением столь же покорным, сколь и всемогущим, а отнюдь не тем высокомерным человеком, каким его хотят представить. Повторю еще раз: видано ли, чтобы человек, не говорю уж атеист, но хотя бы только равнодушный к религии, раздвинул, как он, границы науки за пределы, ей, казалось, предназначенные?
82
Ошибка в доказательстве, состоящая в том, что для доказательства пользуются доводом, еще не доказанным (Примеч. М. О. Гершензона.).
83
Известно, что знаменитое доказательство бытия Божьего, приписываемое Декарту, принадлежит Ансельму, жившему в XI в. Доказательство оставалось погребенным в каком-то уголке человеческого разума в течение почти 500 лет, пока не явился Декарт и не вручил его философии.
84
Нет надобности пытаться определить географически то место земли, где этот светоч находился; достоверно одно: традиции всех народов мира совпадают в указании одной и той же местности земного шара, из которой пришли к нам первые познания людей.
85
Шлейермахер, Шеллинг, Кузен и т. д. и т. д.
86
Так, между прочим, люди перестанут искать, как это делали прежде, великий Вавилон в том или другом земном государстве, а ощутят себя живущими среди треска его крушений; таким образом, поймут, что возвышенный историк грядущих веков, рассказавший нам его ужасное падение, думал не о крушении одного определенного царства, а материального сообщества вообще, такого общества, какое мы видим.
87
Александр, Селевкиды, Марк Аврелий, Юлиан, Лагиды и т. д.
88
Может быть, здесь применяется к коллективному разуму народов тот закон, действие которого мы ежедневно наблюдаем на отдельной личности, а именно, что разум, который по какой бы то ни было причине ничего не почерпнул из массы распространенных во всем человеческом роде идей и таким образом не подчинил себя действию общего закона, а оказался обособленным от человеческой семьи и совершенно замкнулся в себе самом, неизбежно приходит в тем больший упадок, чем менее подчиненной была его собственная деятельность. В самом деле, был ли когда-либо народ доведен до такого состояния унижения, чтобы стать добычей не другого народа, но нескольких торговцев, в свою очередь подданных в собственной стране, а между тем неограниченных владык среди подчиненной нации? Сверх того, помимо неслыханного падения индусов, последовавшего за их завоеванием, умирание индусского общества относится к более раннему времени. Их литература и философия и даже самый язык, на котором все это изложено, принадлежит к порядку вещей, уже давно исчезнувшему.
89
Когда говорят о цивилизованной нации, что она пребывает в неподвижности, необходимо прибавить, с какого именно времени; иначе из этого факта ничего нельзя вывести.
90
С тех пор, как написано это письмо, г-н Гизо в значительной мере оправдал нашу надежду.
91
Смотрите второе письмо.
92
Нельзя упрекнуть ни Геродота, ни Тита Ливия, ни Григория Турского в том, что они не заставили вмешиваться провидение в ход человеческих дел, но едва ли стоит говорить, что не к восстановлению суеверной идеи повседневного вмешательства Бога мы призываем человеческий ум.
93
В этом самом Риме, о котором столько толкуют, осматривать который все ездят и который так мало понимают, имеется удивительный памятник, о котором можно сказать, что это древнее произведение, продолжающее жить и поныне, деяние другого века, остановившееся среди течения времени: это Колизей. На мой взгляд, нет исторического явления, которое пробуждало бы столько глубоких мыслей, как вид этой развалины, которое бы лучше выявляло характерные черты двух эпох человечества и которое бы убедительнее свидетельствовало о великой аксиоме истории – что никогда не было ни настоящего прогресса, ни настоящей устойчивости в обществе до эпохи христианства. Эта арена, куда римский народ толпами приходил упиваться кровью, где весь мир язычества так верно отражался в ужасающий игре, где вся жизнь того времени развертывалась в своих живейших наслаждениях, в своих самых блестящих торжествах, – разве она действительно не возвышается здесь перед нами, чтобы показать, к чему пришел мир в такое время, когда все имеющиеся в человеческой природе силы были пущены в дело сооружения социального здания, а между тем крушение его возвещалось со всех сторон и должна была наступить новая полоса варварства? И там же впервые пролилась кровь, оросившая основание нового здании. Не стоит ли этот памятник целой книги? И удивительно, что он никогда не возбуждал исторической мысли, заключающей в себе эти великие истины! Между толп путешественников, стекающих в Рим, нашелся, впрочем, один, который при взгляде на памятник с соседней и также знаменитой высоты, с которой он мог наблюдать памятник в его поразительном обрамлении, по его же словам, вообразил себе, что он воочию видит как развертываются перед его глазами века, объясняющие ему загадку своего движения. И что же? Этот человек заметил там только шествия триумфаторов и капуцинов! Как будто там ничего не происходило помимо триумфов и процессий. Мелкая и жалкая идея, которая принесла нам лживое произведение, столь известное всем: настоящее поругание со стороны одного из самых великолепных человеческих гениев, какие когда-либо были.
94
Заметьте, что в сущности, библейские персонажи должны бы быть нам особенно знакомы, так как черты их там лучше всего обрисованы. В этом одна из самых сильных сторон Священного Писания. Надо было добиться, чтобы путем нашего отождествления с ними библейские личности непосредственно влияли на наше внутреннее чувство, и этим приготовить души подчиниться влиянию еще более необходимому со стороны Христа: Библия и нашла способ так хорошо обрисовывать черты этих лиц, что образы их, внедряясь в сознание, производят на нас впечатление людей, с которыми мы живем в тесном общении.
95
Если бы я написал не к женщине, я бы особенно рекомендовал читателю, чтобы составить о том понятие, прочитать «Пир» Платона.
96
Впрочем, нет ничего понятнее огромной славы Сократа – единственного умершего из-за убеждений человека, смерть которого Древний мир мог наблюдать. Этот единственный пример героизма убеждений должен был действительно поразить эти народы. Но не безумие ли так ошибаться по отношению к нему нам, видевшим, как целые народы жертвовали жизнью ради истины.
97
Пифагор не составляет в этом отношении исключения. Он личность баснословная, и ему приписывалось все что угодно.
98
Вначале у магометан не было никакого враждебного чувства к христианам; только в результате продолжительных войн между ними и христианами у них возникла ненависть и презрение к последним. Что касается христиан, то совершенно естественно, что они должны были смотреть на магометан как на язычников, позднее как на врагов своей веры; а те затем ими и стали.
99
Если пожелать составить себе понятие о нравственном влиянии Гомера в мире, следует только прочитать сочинения Плутарха или главу Максима Тирского, к нему относящиеся. Затем в книге Геерена главы, в которых говорится о цивилизации греков, а в особенности все, что касается этого предмета, в отличном труде Крейцера о религиях древности.
100
Действие поэзии Гомера естественно сливается с действием греческого искусства, потому что она типичная представительница этого искусства, т. е. последнее создано поэзией Гомера, а греческое искусство продолжало ее действие. Впрочем, существовал ли такой человек, как Гомер, или нет, знать это не важно; историческая критика никогда не сможет вычеркнуть из жизни память о Гомере: философа должна занимать идея, которая связана с памятью о нем, а не сама личность поэта.
101
Настоящим счастьем нашего времени является новая область, не загрязненная гомеризмом, которая недавно открылась для исторического размышления. Влияние идей Индии уже проявляется с большой пользой в развитии философии. Дал бы Бог, чтобы мы пришли как можно скорее этим окружным путем к той точке, куда нас не смогла до сих пор привести более прямая дорога.
102
Но что же, в конце концов, представляла из себя эта статья. Это частное письмо, написанное много лет тому назад одной женщине под воздействием горестного чувства, огромного разочарования, которое из-за нескромного тщеславия журналиста было вынесено на суд публики: читанное и перечитанное сотни раз еще до опубликования, причем в оригинале, гораздо более резком, чем слабый перевод, который был напечатан, оно никогда не вызывало чьих бы то ни было нареканий, не исключая даже и самых страстных патриотов, и в котором, наконец, среди нескольких страниц глубоко благочестивых помещалось историческое изыскание, где старый тезис о превосходстве стран Запада повторялся с некоторой теплотой, быть может, и с преувеличением. Таково было это ненавистное сочинение, этот возбудивший умы памфлет, навлекший на своего автора гнев публики и необычайные преследования.
103
От франц. frapper – поражать, удивлять. (Примеч. М. О. Гершензона.)
104
Будь здоров и люби меня (лат.) (Примеч. ред.).
105
Об этой оказии, кажется, я тебе писал из Гельзингора.
106
Остров Уайт. (Примеч. М. О. Гершензона.)
107
От франц. palpitation – сердцебиение. (Примеч. М. О. Гершензона.)
108
Меблированные комнаты со столом (англ.). (Примеч. М. О. Гершензона.)
109
Сдается комната (англ.). (Примеч. М. О. Гершензона.)
110
Будь здоров и люби меня (лат.) (Примеч. М. О. Гершензона.).
111
Штиглиц, на Английской набережной в собственном доме; написать можешь по-русски; или можешь отослать деньги к Степану Иванову крестьян. К. Д. М., а он их отнесет к Штиглицу.
112
Официальное название «Комеди Франсез», старейшего театра Франции (Примеч. М. О. Гершензона.).
113
Правильно: Берг (Примеч. М. О. Гершензона.).
114
Будь здоров и люби меня (лат.).
115
Фиалкового сиропа (Примеч. М. О. Гершензона.).
116
Правильно: сирокко (Примеч. М. О. Гершензона.).
117
От фр. exaggeration – преувеличение (Примеч. М. О. Гершензона.).
118
Правильно: Нефедьева (Примеч. М. О. Гершензона.).
119
Так в оригинале (Примеч. М. О. Гершензона.).
120
Да приидет Царствие Твое (лат.) – цитата из Евангелия от Матфея (6,10) (Примеч. М. О. Гершензона.).
121
В оригинале слово «Обливанцы» написано по-русски. Значение его непонятно (Примеч. М. О. Гершензона.).
122
Да приидет Царствие Твое (лат.) (Примеч. М. О. Гершензона.).
123
Мировой дух (нем.) (Примеч. М. О. Гершензона.).
124
В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал (лат.) (Ин. 1,10) (Примеч. М. О. Гершензона.).
125
Да приидет Царствие Твое (лат.) (Примеч. М. О. Гершензона.).
126
Исповедание веры (Примеч. М. О. Гершензона.).
127
Состав преступления (лат.) (Примеч. М. О. Гершензона.).
128
Тому, кому ведать надлежит (фр.). (Примеч. М. О. Гершензона.)
129
Что народ может иметь общего с разумом? (нем.). (Примеч. М. О. Гершензона.)
130
Глас народа, глас Божий (лат.). (Примеч. М. О. Гершензона.)
131
Золотую середину (фр.). (Примеч. М. О. Гершензона.)
132
Я не представлял его себе ни таким отменным французом, ни таким отменным русским (фр.). (Примеч. М. О. Гершензона.)
133
Я говорю о прозе, поэт везде необыкновенный человек.
134
Действенность красноречия в одобрении слушателей (лат.). (Примеч. М. О. Гершензона.)
135
Чтобы вернуться к В. (фр.). (Примеч. М. О. Гершензона.)
136
От франц. commérage – сплетни, пересуды (Примеч. М. О. Гершензона.).
137
См. то, что говорит митрополит Платон в своей истории нашей церкви о введении христианства в нашей стране.
138
«Вот в чем вопрос» (англ.) – слова Гамлета из трагедии Шекспира (Примеч. М. О. Гершензона.).
139
«Культ дрыгоножества» (фр.) (Примеч. М. О. Гершензона.).
140
[Неразобранное слово.] (Примеч. М. О. Гершензона.)
141
Замечательно, что ни один из составителей этих биографий train de vitesse [скоропалительные – фр.] и ни один из тех, кто удостаивал их в то время немедленной голословной критикой, не соглашались между собою, на что именно должно было указывать в чертах жизни того, о ком шло дело. Так, одни говорили, что следовало указывать на его значение в обществе, другие – что это-то именно необходимо оставить без внимания, а толковать про его знакомство с Пушкиным, третьи выдвигали на первый план еще что-нибудь, четвертые также и т. д. Настоящего же значения самого Чаадаева никто не коснулся.
142
Единственное возможное объявление, по моему мнению, было бы следующее: «14-го апреля, в Страстную субботу, окончил жизнь в Москве Петр Яковлевич Чаадаев».
143
Исключая лиц, почему-нибудь известных вообще, «Московские Ведомости» объявляют еще о смерти превосходительских особ без различия, были ли они генерал-майоры, контр-адмиралы или действительные статские советники, но Чаадаев не был ни тем, ни другим, ни третьим.
144
Я никак не могу уразуметь, что такое по-русски значит «кружок». Если круг или кружок известного семейства или знакомства, то, повторяю, нечего было про это печатать. Кружку предоставляется всегда и везде своими средствами узнавать, жив или умер один или несколько из его членов; если же принять значение, которое имеет во Франции и в некоторых других странах слово «cercle», то это значение у нас не существует.
145
Московская улица.
146
Здесь место воспоминанию о прекрасном и трогательном анекдоте, приведенном М. Н. Лонгиновым в его достойном всякого уважения труде. Анекдот этот, впрочем, несколько разукрашен и не имеет в себе той театральной эффектности, которую ему старались придать. Княжна Анна Михайловна просто сначала не догадалась, в чем дело. Она раз находилась в церкви вместе с обоими племянниками. В это время в доме у них случился пожар. Слуга прибежал в церковь с криками: «У нас в доме несчастье». – «Какое же может быть несчастье, – возразила княжна, – дети оба со мной и здоровы».
147
Около одного миллиона рублей ассигнациями стоимости всего состояния на двух братьев; по тому времени это очень много и почти значительное богатство. Оно состояло из большого оброчного имения в Нижегородской губернии, из какого-то денежного капитала и, кажется, еще из дома в Москве.
148
У Чаадаева был какой-то вроде дядьки англичанин, про которого мне ничего не известно, исключая того, что по этому случаю оба брата хорошо знали по-английски, что между русскими нечасто бывает. Сверх того, Петра Чаадаева (как не раз мне это пересказано было) дядька-англичанин научил пить грог.
149
Пушкин в «Онегине».
150
Один раз навсегда следует обговориться. Здесь я имею в виду только одного Петра Чаадаева. Его брата, Михаила Яковлевича, я не знаю, и в этой записке мне до него никакого нет дела. (С тех пор, как это написано, я имел случай его узнать.) Из достоверных рассказов мне известно, что он также чрезвычайно замечательный человек, хотя в совершенно противоположном роде.
151
Князь Дмитрий Михайлович Щербатов служил в лейб-гвардии Семеновском полку, обстоятельство довольно важное, так как, вероятно, в его силу его сын, князь Иван, и оба Чаадаевы очень скоро будут записаны в тот же полк, что в судьбе Петра Чаадаева может быть, как увидим, сочтено за событие роковое и предопределенное. Кажется, он состоял в чине полковника. Его служебная карьера ничего в себе замечательного не заключала. Обучался он в Кенигсбергском университете, по общему примеру тогдашней знатной молодежи, рыскавшей в то время по университетам Европы. Его университетская жизнь обозначилась двумя случаями, вероятно, выдуманными, но очень характеристичными. Последний, сколько я понимаю, принадлежит изобретательности Чаадаева. В какой-то проезд через Кенигсберг великого князя Павла Петровича (впоследствии императора Павла I) князя Щербатова, как родового русского, избрали для произнесения его высочеству на русском языке приветствия; но когда великий князь приехал, то Щербатова тщетно старались найти и не отыскали; он скрылся на каком-то чердаке, и великий князь принужден был отбыть в дальнейшее следование, обходясь без всякого русского приветствия. Второй случай еще забавнее. Студенчеству Щербатова в Кенигсберге была современною там же, довольно, впрочем, известная на целом земном шаре, профессура Эммануила Канта. Несмотря, однако ж, на некоторую степень известности, ни профессорское положение Канта, ни его преподавание, ни даже имя будто бы не дошли до слуха князя Щербатова в студенческие годы, и проведал он про них, и то очень смутно, неясно и отрывочно, только лет тридцать спустя.
152
При этом необходимо сделать небольшую оговорку, иначе помнящие дело могут обвинить меня в пристрасти. Общество само собою стекалось в те дома, в которых Чаадаев делался обыкновенным гостем, и можно смело сказать, что в этом случае он, кроме своей особы, не навязывал хозяевам никого, но к себе он сзывал людей чрезвычайно усиленно, через что многим и надоедал. Такая неотвязчивость доводила его иногда до довольно смешных случаев. Приведем об этой черте его характера несколько выражений другого прославленного современника, Александра Ивановича Герцена, предварительно заметив, что Герцен, этот неумолимый, суровый, злой, желчный и обидный насмешник и бичеватель, питал к Чаадаеву особенное пристрастие и если и позволял себе иногда над ним трунить, то всегда не иначе как с иронией, исполненной любезности, благоволения и тихого успокоения. Так, он говорил, что «Чаадаев не обращает и не должен обращать внимания на то, что кто-нибудь из его знакомых отъехал, заболел или умер, что такие случайности не должны иметь влияния на численность гостей в дни его приемов», что «общая цифра народонаселения известна Петру Яковлевичу и что, соображаясь с нею, он, независимо от всяких других расчетов, должен полагать себя вправе ожидать в эти дни соответствующего контингента гостей». Однажды довольно поздно, когда все уже съехались (Чаадаев принимал по утрам), я вместе с Герценом стоял перед окном, мимо которого гости должны были проезжать. Проехал какой-то извозчик без седока. Герцен, увидев его, сказал: «Ездили, ездили экипажи с гостями, наконец, пустые извозчики стали ездить». Кто-то как-то заметил, что общество, встречаемое у Чаадаева, уже чересчур перемешано – упрек совершенно справедливый. Чаадаев принимал всех почти без всякого разбора; от этого у него попадались часто люди, которых никак и пускать бы не следовало. Герцен, ни в каком случае не выдававший Чаадаева, отвечал следующей забавной шуткой: «На это нечего жаловаться: Петр Яковлевич очень любит, чтобы у него было много гостей; от этого он и пускает к себе денного разбойника графа и ночную тать В. И. К.». Герцен чрезвычайно уважал Чаадаева. Когда последний, познакомившись с московским митрополитом, назвал его «un aimable prince de l’église» [достолюбезный князь церкви. – фр.], то первый, говоря со мной об этом знакомстве довольно долго спустя, сослался на это словечко. «Как, вы не забыли этого?» – сказал я. «Я ничего не забываю, что говорит Петр Яковлевич, – отвечал Герцен, – потому что все, что он говорит, либо чрезвычайно умно, либо чрезвычайно смешно». Герцен Чаадаева никогда не звал просто по фамилии, а всегда Петром Яковлевичем.
153
После двадцати пяти лет, будучи лейб-гусарским офицером, словом, живя в Петербурге, он танцевать уже перестал. Однако ж сказывал мне, что иногда танцевал мазурку, которую исполнял превосходно, за что на каком-то очень модном и очень великосветском бале получил комплименты лорда Каткарга, в то время бывшего английским послом в Петербурге, человека чрезвычайно уваженного, сказавшего по этому случаю, что «смолоду он и сам танцевал не хуже и не меньше умел греметь шпорами».
154
Между университетом и Охотным рядом.
155
Хотя разным портным, сапожникам, шляпных дел мастерам и тому подобным лицам он платил очень много и гораздо больше, нежели следовало, беспрестанно меняя платье, а иногда и просто по привычке без всякого толка тратить деньги.
156
Здесь, я думаю, место разъяснению в его особе одной случайности, может быть, не совершенно соответствующей достоинству исторической работы, но о которой, однако ж, в истории отдельных лиц всегда поминается. Я тороплюсь приступить к этой подробности, потому что мне хочется как можно скорее с нею развязаться. Чаадаев имел огромные связи и бесчисленные дружеские знакомства с женщинами. Тем не менее никто никогда не слыхал, чтобы которой-нибудь из них он был любовником. Вследствие этого обстоятельства он очень рано – лет тридцати пяти – стяжал репутацию бессилия, будто бы происшедшего от злоупотребления удовольствиями. Потом стали говорить, что он во всю свою жизнь не знал женщин. Сам он об этом предмете говорил уклончиво, никогда ничего не определял, никогда ни от чего не отказывался, никогда ни в чем не признавался, многое давал подразумевать и оставлял свободу всем возможным догадкам. Тогда я решился напрямки и очень серьезно сделать ему лично вопрос, на который потребовал категорического ответа: «Правда или нет, что он во всю свою жизнь не знал женщины, если правда, то почему: от чистоты ли нравов или по другой какой причине?» Ответ я получил немедленный, ясный и определенный: «Ты это все очень хорошо узнаешь, когда я умру». Прошло восемь лет после его смерти, и я не узнал ничего. В прошлом годе, наконец, достоверный свидетель и, без всякого сомнения, из ныне живущих на то единственный, которого я не имею права назвать, сказывал мне, что никогда, ни в первой молодости, ни в более возмужалом возрасте, Чаадаев не чувствовал никакой подобной потребности и никакого влечения к совокуплению, что таковым он был создан. Должно согласиться, что организация такого свойства в высшей степени феноменальна. Тот же свидетель прибавил, что, будучи молодым офицером, в походах и других местах он имел слабость иногда хвалиться интрижками и некоторого рода болезнями, но что все эти россказни никакого основания не имели и не чем другим были, как одним хвастовством. Желая еще более углубиться в этот предмет, я подвергнул свидетеля еще некоторым вопросам, но за неполучением на них ясных ответов больше ничего утверждать не смею, хотя из постоянного тона разговора Чаадаева, из различных умолчаний, из недосказанных намеков и из некоторых слухов, впрочем, совершенно на ветер и особенного внимания не стоящих, мог бы, кажется, пуститься в некоторые догадки.
Так как уже зашла об этом речь, то приведу один анекдот, собственно не имеющий никакого отношения к серьезной части рассказа, но кажущийся мне очень милым и пикантным. Одно время Чаадаев находился в особенно дружеских отношениях с одной дамой, по происхождению иностранкой, блистательной красавицей, самой благородной, великодушно-богатой крови полуденных стран Европы. За молодостью лет, я не знал этой дамы. Ее имя, которое я, разумеется, прописать не могу, в свое время было очень известно. Связь их была дружеская, исполненная умственных наслаждений, взаимного уважения и, сколько я понимаю, не лишенная сердечной искренности. Несмотря на то пустоголовые глупцы и праздношатающиеся вестовщики, как это обыкновенно бывает, видели в ней другое и другое про нее пересказывали. Желала ли дама зажать рот дурацкой болтовне или просто хотела посмеяться, только в одно утро она сказала, заливаясь звонким смехом, одному, недавно умершему, в тот день ее посетившему ученому:
– Hier Tehaadaef est resté avec moi jusqu’à trois heures du matin; il a été singulièrement pressant, si bien qu’un instant jeus la pensée de lui céder. [Вчера Чаадаев был со мной до трех часов ночи. Он был чрезвычайно настойчив, так, что в какой-то момент у меня мелькнула мысль уступить ему. – Фр.].
– Mais pourquoi donc cela, madame? [Но почему же, сударыня? – Фр.], – спросил ученый, по специальности своего знания, больше, нежели кто другой, понимавший положение.
– Mais je vous avoue, je n’aurais pas été fâchée de voir ее qu’il ferait [Я бы не отказалась посмотреть, что он будет делать. – Фр.].
157
Мать Грибоедова, жившая очень долго, и его сестра чтили воспоминание этой короткости до конца, а его супруга, как известно, никогда надолго в Москве не бывавшая и при жизни мужа Чаадаева никогда не знавшая, по приезде с Кавказа поспешила его навестить в память связи с мужем. Это случилось около тридцати лет после смерти Грибоедова.
158
Эти случаи, собственно, состоят из театральной закулисной жизни поэта, из его знакомств с тогдашними актрисами, из образа существования, очень не нравившегося его семейству, от которого оно его всячески желало отвлечь и, наконец, отвлекло, из отношений его к комику князю Шаховскому и примечательного в себе ничего не имеют. Гораздо пикантнее, что Грибоедов, уже назначенный в Персию, перед тем как идти к министру иностранных дел, забежал к Чаадаеву в усах и на его вопрос, не сошел ли он с ума, собираясь к графу Нессельроде в таком виде, отвечал: «Что же тут удивительного? В Персии все носят усы». – «Ну, так ты в Персии их и отпустишь, а теперь сбрей: дипломаты в усах не ходят».
159
В Бородинский бой оба Чаадаева были подпрапорщиками и в этот день произведены стараниями Закревского (впоследствии графа, министра внутренних дел и московского генерал-губернатора), сделавшего в их пользу несправедливость и посадившего их товарищам на голову в память их какого-то родства с графом Каменским.
160
Кроме железного креста он имел еще два других, прусский «pour le mérite» [за заслуги. — Фр.] и, кажется, какую-то Анну на сабле, но этих двух никогда не надевал. Все медали того времени, разумеется, он также имел.
161
Кажется, во все время перемирия Семеновский полк был расположен в Силезии, в деревне Lang Bilau. Стоянке в этой деревне я приписываю для Чаадаева чрезвычайную важность. Тут впервые охватило его влияние европейской жизни в одной из самых прелестных и самых обольстительных из ее форм. Об деревне Lang Bilau Чаадаев до конца жизни не поминал иначе как с восхищением, очень понятным всякому, кто знает различие между русской деревней и деревней Силезии или Венгрии.
162
«Une armée hors des frontières, c’est l’état qui voyage» [Армия в походе, это – путешествующее государство. – Фр.] – сказал, помнится, старый Наполеон.
163
Это уважение было так велико, что без малейшего затруднения и без всякого нарекания он мог отказаться от дуэли, за какие-то пустяки ему предложенной довольно знатным лицом, приводя причиною отказа правила религии и человеколюбия и простое нежелание; все это, подтверждаемое следующим размышлением в виде афоризма: «Si pendant trois ans de guerre je n’ai pas pu établir ma réputation d’homme comme il faut, un duel, certainement, ne l’établira pas» [Если в течение трех лет войны я не смог создать себе репутацию порядочного человека, то, очевидно, дуэль не даст ее. — Фр.].
164
Не говоря уже про его близкие отношения с людьми, занимавшими высшие государственные должности или почему-нибудь пользовавшимися какими-нибудь исключительными беспримерными преимуществами, с князем Кочубеем и Карамзиным, например, высокое положение которых, одного как министра, другого как прославленного писателя и историка, обоих как личных искренних друзей государя, принадлежит истории, даже люди, вообще известные дикостью и звероподобием нравов, брутальностью обхождения, смирялись и делались кроткими, приходя в сношения с Чаадаевым. В Петербурге находился в то время многим памятный, довольно сильный и влиятельный по самому себе и по значительным связям тайный советник, статс-секретарь и президент Академии художеств. Я не занимаюсь оценкой его личности и приводимым здесь случаем не желаю бросать на нее никакой тени. Однако же положительно про него все знали, что он ни с кем вообще не обходился иначе, как непомерно грубо и дурно, и что от него, кого он только может обругать или кому нагрубиянить, никто без ругательства или по крайней мере без грубостей не уходит. В число подобных жертв, как мне сказывали, включались и все, без исключения, его домашние. Раз в какое-то утро, да еще и не по очень важному делу, Васильчиков прислал к нему своего адъютанта Чаадаева. Вот рассказ об этом свидании достоверного свидетеля:
«Таких адъютантиков и офицериков к нам всякий день езжало без числа, и всем им прием был весьма неласковый, а почасту и брань. Представьте же себе мое удивление: входит Чаадаев. Статс-секретарь, правда, его не посадил, но зато сам встал и разговаривал с ним стоя, сколько тому было нужно, как с себе подобным, а прощаясь, подал руку и проводил до дверей кабинета: я остолбенел».
165
Великого князя Константина Павловича он почему-то считал своим благодетелем и чрезвычайно чтил его память до конца жизни. Про это я буду говорить еще.
166
Меньше всех он был знаком с великим князем Николаем Павловичем. Однако же многие помнили, что и он оказывал Чаадаеву особенное расположение, на которое, как известно, и будучи еще великим князем, Николай Павлович быть особенно тароватым никогда не любил. Чаадаев пересказывал, что раз в манеже великий князь Николай застал его обучающим лошадь для фронта и сейчас же милостиво спросил: зачем учить лошадь, а не не водить в собственный его манеж в Аничковом дворце? На полученный же ответ, что в манеже, принадлежащем члену царского семейства, гораздо стеснительнее, что, например, надобно быть непременно в форме, великий князь будто бы весело возразил: «Quelle idée, mon cher, entre nous, allons donc, vous, viendrez, comme vous voudrez, vous viendrez, en bonnet de police!» [Что за мысль между нами, мой дорогой! Приходите хоть в полицейской фуражке! – Фр.]. В последние же годы царствования Николая I, а следовательно, и в последние годы жизни Чаадаева, по миновании и по забытии вещей, могших возбуждать на него гнев или неудовольствие государя, на бале у московского генерал-губернатора император будто бы, вошедши в залу, первого для себя короткого человека встретил графа Павла Дмитриевича Киселева, с которым в то время находился Чаадаев. Государь остановился с Киселевым и начал с ним продолжительную беседу, перед чем, однако же, предварительно с Чаадаевым поздоровался со словами «Здравствуй, Чаадаев» и легким наклонением головы. Чаадаев в это время, разумеется, отступил шага на два назад, а государь, продолжая разговор с Киселевым, будто как бы в доказательство того, что говорил, несколько раз указывал на него рукой, произнося: «Да вот, спроси хоть у Чаадаева». Этот случай пересказывал мне сам Чаадаев, а я ему даю веру не иначе как с большою осмотрительностью и не совсем охотно, принимая в соображение как личный характер горделивого императора, тогда стоявшего на апогее своего величия – это было незадолго до Крымской войны, – так и то очень немаловажное обстоятельство, что в это время со дня их последнего свидания прошло немного побольше двадцати пяти годов.
167
Эта библиотека, в которой, говорят, есть некоторые библиографические редкости, перед его отправлением в заграничное путешествие, до которого скоро дойдем, была продана князю Шаховскому и ныне находится в имении его сына в Серпуховском уезде.
168
Ламартин. «История жирондистов».
169
Сюда можно отнести анекдот очень потешный и вообще малоизвестный. Один раз под вечер, когда все кошки делаются серыми, Пушкин, бегая по какому-то коридору, наткнулся на какую-то женщину, к которой пристал с неосмотрительными речами и даже, сообщают злоязычники, с необдуманными прикосновениями. Женщина подняла крик и ускользнула, однако же успела рассмотреть и узнать виновного. Она была немолода, некрасива и настолько знатна, что слух об этом маленьком происшествии дошел до ушей самого государя. Государь, недовольный шалостью одного из воспитанников своего любимого лицея, приказал немедленно Пушкина высечь. Энгельгардт этого приказания не исполнил. Известно, что при императоре Александре I можно было иногда повелений такого рода не выполнять, а потом за ослушание получать благодарность. Слух же про крошечный скандальчик разнесся по Царскому Селу, и раздражительный поэт почтил пожилую девушку следующим французским четверостишьем, в котором, мне кажется, уже вполне проглядывают столько впоследствии известные и грозные пушкинские когти:
170
В этом меньшинстве должно считать и самого Чаадаева, и надо признаться, что если пребывание его в рядах этого меньшинства ни под каким видом и ни в каком случае оправдано быть не может, однако ж объясняется и до некоторой степени извиняется как его огромным самолюбием и тщеславием, так и тем, что он сам себя с очевидной добросовестностью и в сердечной простоте обманывал и ослеплял.
171
Религия дружбы была так велика в Пушкине и так присуща его существу, что некоторые думали даже объяснять продолжительность его привязанности к Чаадаеву этим чувством, говоря, что иначе невозможно было понять столько коротких искренних отношений между людьми, до такой степени противоположными и убеждений совершенно различных. Надобно добавить, что это говорили люди, Чаадаеву не очень доброжелательствовавшие, и что Пушкин не успел высказать своих мыслей по поводу раздражительного прения, Чаадаевым возбужденного. Очень легко быть может, что своей смелой и блистательной инициативой Чаадаев еще более поднялся бы и вырос в его глазах. Поле догадок насчет того положения, которое он мог бы принять, широко: если сомнительно, чтобы он вполне разделил чаадаевские мнения, то более нежели вероятно, что с частию их он бы согласился, а остальное, может быть, и отвергнул бы, но все же не иначе как с полною осторожностью и с должным глубоким уважением. Так по крайней мере поступили люди, по духовному закалу наиболее Пушкину тожественные и, сверх того, с Чаадаевым вполне несогласные, убеждений диаметрально противоположных, каковы Орлов (Михаил Федорович), Герцен, Киреевский (Иван Васильевич) и многие другие. Странного, чтобы не сказать больше, объяснения, что Пушкин любил и уважал Чаадаева по какой-то нравственной обязанности, конечно, никто бы и не стал выдумывать, если бы знал или потрудился вспомнить, какие по своему существу были их отношения. В «письмах» Пушкина и к таким лицам, которых не было ему причины не уважать, проглядывает почасту какое-то ухарство и даже озорство, очевидно, заимствованные и не совсем шедшие к его личности, страстной и пламенной, но в то же время, как и все великие натуры, важной, простой, скромной, гениально-застенчивой. Ничего подобного, во всю его жизнь, нет ни в одном слове, сказанном Чаадаеву. Сверх того, некоторых из своих стихотворений, которыми поэт никакой причины не имел гордиться, хотя они, однако же, в свое время способствовали распространению его известности в определенном круге, он Чаадаеву никогда не сообщал, может быть, опасаясь его укора и, уж наверное, находя их недостойными столько уваженного и дорогого суда.
172
Конечно, бывают, и весьма часто, дружеские отношения, вовсе не исключающие иногда очень большого друг к другу уважения, основанные совсем не на чисто интеллектуальных началах, а на других, более суетных и мирских, например, на совокупно-веселой и даже разгульной жизни; но про такого рода связь между Пушкиным и Чаадаевым не может быть и речи.
173
Кроме не один раз цитированного «послания» вот, например, какими стихами Пушкин почитал Чаадаева:
174
Здесь я также хочу упомянуть о том, что первому знакомству государя Александра I с сочинениями Пушкина способствовал Чаадаев, и об надписи к чаадаевскому портрету, Пушкиным сделанной. Быстро возрастающая известность Пушкина достигла до царского слуха. Государь пожелал прочитать что-нибудь из его произведений и для этого обратился к Васильчикову, который, со своей стороны, зная близкие отношения с поэтом своего адъютанта, возложил на него исполнение государевой воли. Для такого почетного прочтения была подвергнута августейшему вниманию известная пиеса «Деревня» или «Уединение», в которой поэт призывал только в царствование Александра II приведенное в исполнение уничтожение крепостного права, та самая, в которой следующие стихи:
Портрет, под которым Пушкин сделал собственноручную надпись (я никогда не видал этого портрета и не знаю, куда он девался, но знаю очень хорошую с него копию), изображает Чаадаева, впоследствии совершенно лысого, в великолепных каштановых кудрях, самих собою вьющихся, в мундире Ахтырского гусарского полка. Вот эта надпись, сколько мне помнится, ни разу еще не бывшая напечатанною в России:
Не занимаясь прямо биографией поэта, я не нахожу надобности пространно излагать подробностей, прямо до него относящихся.
175
«Кто в самом себе не имеет обеспеченности, тому ни к чему не послужит пропадать на берегах Гангеса», – сказал, помнится, Шатобриан в своих «Загробных записках». Есть русская прекрасная пословица, выражающая ту же самую мысль: «Не найдешь в себе, так не найдешь в селе».
176
Уиллиама Питта.
177
При этом невозможно, однако, не взять во внимание различия образования низших сословий, существующего между Англией и Россией.
178
Говорят, будто бы старший адъютант с горя, что не он был послан, застрелился. Впрочем, это неверно: по другим слухам, он совершил самоубийство от семейных обстоятельств. Кроме его было еще несколько лиц, которых можно бы было и даже следовало послать прежде Чаадаева. Но Васильчиков предпочел его.
179
Не могу удержаться, чтобы не привести здесь забавной подробности из разговора Чаадаева с графом Милорадовичем, содержания которого я, впрочем, не знаю, точно так же, как и содержания всех других официальных разговоров по этому бедственному делу. Их пересказывать Чаадаев всегда избегал очень заботливо и очень искусно. Прославленный герой Отечественной войны, за которым поныне сохранилось несколько напыщенное название «рыцаря без страха и упрека», имел слабость, вовсе того не умея, поминутно говорить по-французски. Свои инструкции Чаадаеву он давал на этом языке и выводил его во все время разговора из терпения самыми скучными ошибками и даже непонятливостью речи.
180
При Чаадаеве фрака не было. В то время не существовало еще того огромного количества всякого рода готового платья, которого теперь в Европе везде такое изобилие. Поэтому идти к государю – Чаадаев надел фрак своего камердинера. Я очень рад встретившемуся случаю сказать несколько слов об этом камердинере. Он был гораздо более друг, нежели слуга своего господина, и, по рассказам – я его лично не знал за его преждевременной смертью, – отличался большой щеголеватостью, очень хорошим тоном, чрезвычайно утонченными приемами, хотя от природы был довольно прост. «Точно барин», – говорили про него другие. В России, где слуги так редко бывают похожи на господ, камердинер, которого не отличают или мало отличают от так называемого барина, может быть показываем за деньги. Сверх того, это почти всегда признак благородной, не рядовой натуры. Иван Яковлевич, так его звали, был до такой степени порядочным человеком, что одна дама, великолепнейшая барыня, которую только можно видеть, бывая у Чаадаева, всегда с ним здоровалась и спрашивала, как он поживает, а Пушкин подавал ему руку. Потом, когда он ездил с Чаадаевым по Европе, в Дрездене с ним произошло очень милое, смешное приключение. Тогда русские туристы за границей не так были часты и обыкновенны, как нынче, и всегда являлись к своим послам. К тому же почти со всеми с ними Чаадаев был и лично знаком. Раз, после хорошего обеда, он сидел с русским уполномоченным в делах при саксонском дворе, на Брюлевской террасе. В разговоре уполномоченный стал ему рассказывать, что «по Дрездену шатается какой-то русский, который, удивительное дело, неизвестно почему не делает своему послу чести его навестить»…
– Да вот он идет, voilà l’individu [этот человек – фр.]! – продолжал сердитый уполномоченный, указывая довольно неучтиво, не знаю – зонтиком или палкой, на мимо идущего Ивана Яковлевича.
– Чего же удивительного, что он у вас не был, – успокоил его, смеясь, Чаадаев, – это мой камердинер.
181
Известно, что император Александр I легко плакал.
182
«Я про них думаю… я про них думаю… что я про них думаю, я и сказать не смею». Собственные точь-в-точь слова государя.
183
Лудвига XVI.
184
Фомы Бекета.
185
Один раз я, как-то совершенно для него неожиданно, спросил у Чаадаева, для чего он вышел в отставку, после слов государя «теперь мы станем служить вместе»? Он отвечал очень скоро и резко, с заметным неудовольствием: «Стало быть, мне так надо было».
186
Государь был крайне удивлен и крайне недоволен его отставкой. Он даже присылал от себя очень значительное лицо спросить, «для чего он выходит, и даже если чем недоволен или в чем имеет нужду, так чтобы сказал; коли, например, нужны ему деньги», то государь приказал ему передать, «что он сам лично готов ими снабдить». Когда же Чаадаев отвечал, что «кроме отставки, ничего не желает и ни в чем не нуждается», государь не дал ему мундира и чина полковника, при увольнении ему следовавших. Не помню что-то, тосковал ли Чаадаев об мундире, но об чине имел довольно смешную слабость горевать до конца жизни, утверждая, что очень хорошо быть полковником, потому, дескать, что «полковник – un grade fort sonore» [очень звонкий чин – фр.].
187
Дурное положение его дел происходило от обыкновенного мотовства или расточительности, явления, особенной редкости собой не представляющего. Но что в нем было особенного, лично и исключительно ему принадлежавшего, это то, что, самым бестолковым и всегда эгоистическим образом протратившись, он постоянно пускался в две операции, весьма огорчительные для его собственного достоинства и пренесносные для других близких ему людей; во-первых, обвинял в своей провинности все остальное человечество, кроме самого себя, причем позволял себе иногда, чтобы себя оправдать, даже клеветы; а во-вторых, посягал на чужую собственность, в том отношении, что чуть не насильно занимал деньги и их почти никогда без неудовольствий, ссор и жалоб не отдавал. Так как эта его черта была довольно известна и всякий в этом отношении остерегался, то число его жертв было ничтожно, исключая, впрочем, одной родного его брата. Редко случается, чтобы брат для другого брата сделал столько самых великодушных пожертвований, сколько Михаил Чаадаев сделал их для Петра Чаадаева, и никогда не должно случаться, чтобы облагодетельствованный был благодетелю столько и столько черно и гнусно неблагодарен. Вместо того чтобы быть признательным, он приписывал брату свое разорение, извращая обстоятельства и выдумывая факты. Набросим завесу на эти недостойные клеветы, которые, если бы были пересказаны, едва ли бы показались вероятными. Помимо их, и несмотря на мое нежелание вести речь про дела имущественные, я был бы в состоянии пересказать в подробности их денежные отношения, и непременно бы то исполнил, если бы сам Михаил Яковлевич Чаадаев не сделал этого для меня невозможным. Когда в сороковых годах нужда стала очень донимать Чаадаева, он написал брату с просьбою «в последний раз ему помочь». Надобно заметить, что каждый раз был последним и что цифры требуемого он никогда, или почти никогда, не определял. Михаил Яковлевич Чаадаев писать не охотник, посылаемые к нему письма, говорят, не всегда прочитывает и всегда очень любит оставлять без ответов, а письмо, от него полученное, должно считать явлением необыкновенным и феноменальным. Однако ж брату, после довольно продолжительного молчания, он ответил на двух больших почтовых листах, мелко исписанных. Это письмо Петр Чаадаев, видимо боявшийся от брата совершенного отказа, месяца полтора носил в кармане нераспечатанным и, наконец, в один вечер отдал его мне в читальной комнате московского Английского клуба для того, чтобы я его прочитал и пересказал ему содержание. Образец ясного и отчетливого делового изложения, оно содержало в себе полный, подробный рассказ имущественных отношений между обоими братьями, и на его основании можно было бы восстановить их в очевидной для всякого наглядности. Оно заключалось следующей глубокой, отменно милой и успокаивающей иронией: «Несмотря, однако же, на все вышепрописанное, я не отказываюсь быть тебе полезным и по моим силам тебе помочь, только непременно хочу, чтобы ты написал, сколько именно тебе нужно, потому что тебе-то, может быть, все равно взять и больше, да мне-то не все равно дать». Петр Чаадаев письмо опровергал самым простым, несложным способом, нецеремонно и без околичностей говоря, что «все в нем написанное неправда, а если бы была правда, так мне (Петру Чаадаеву) больше бы делать нечего, как сейчас же бежать топиться». В самом деле, столько для него обличительное, оно носило на себе печать истины, и спорить против него иначе было и нельзя, как прямым, отчаянно-наглым утверждением, что изложенные в нем факты выдуманы. Письмо, разумеется, он поторопился сию же минуту уничтожить, но у Михаила Яковлевича оно сохранилось в черновом экземпляре, что мне известно, потому что мне это сказывал сам Михаил Яковлевич. На мою просьбу отдать мне этот экземпляр он было сначала согласился, но потом объявил, что «ему и лень, и недосуг, и не хочется его искать, и чтобы я его от того имел избавить».
Один из теперешних профессоров Московского университета, будучи еще студентом и имея случай проводить летнее время у товарища в Нижегородской губернии, по соседству с Михаилом Яковлевичем, там с ним виделся и имел разговор такого содержания: «У меня в Москве есть брат, – сказал ему Михаил Яковлевич, – не знаете ли вы его?» – «Вашего брата знает вся Москва, и я в числе других, – отвечал студент, – но лично быть ему известным я не имею чести». – «Скажите, пожалуйста, не знаете ли вы, чем он живет?» – продолжал Михаил Яковлевич. «Этого я совсем не знаю», – сказал студент. «По нашему разделу, – покончил Михаил Яковлевич, – за мною оставался порядочный его капитал, с которого ежегодно я ему высылал проценты; теперь и капитал, и проценты давно уплачены: но так как я знаю, что ему жить нечем, то все продолжаю всякий год высылать проценты с долга, уже погашенного и несуществующего; однако же твердо уверен, что этой не очень значительной суммы достаточно для него быть не может». Оно на самом деле от слова и до слова так и было. Кроме и сверх этого от двух в продолжение их жизни пришедших к ним наследств, из которых одно было довольно ценное, Михаил Яковлевич Чаадаев отступился без всякого вознаграждения, предоставляя их брату.
В заключение скажу, что непомерный и почти чудовищный его эгоизм, преступная слабость, по несчастию, так часто как будто общая и глубоко загнездившаяся во всемирной семье необыкновенных деятелей, источник и причина и его расточительностей, и его тщеславий, и его нередких малодуший, был его единственным недостатком или пороком. Не будь этого, он был бы совершенством, а совершенства, как известно, Господь Бог на землю не посылает.
188
Знал он еще, кажется, Вилльмена, барона Экштейна и кардинала Феша, но эти знакомства, если, они и были, все равно что ничего, хотя к Экшгейну он раз либо два писал и получал ответы.
189
Ныне священник Иисусова братства.
190
В «Русском вестнике».
191
Кроме других источников, любопытные могут взглянуть об этом событии мнение, исполненное последней строгости, может быть, ошибочное, но уже наверное чистосердечное, герцога Рагузского в его «Записках».
192
Во время коронации императора Николая I в Москве Чаадаев имел разговор с Блудовым (потом граф, председатель Государственного совета), бывшим, как известно, секретарем «следственной комиссии» и составителем знаменитого «доклада». Разговор сам по себе не особенно интересен, и я про него поминаю только потому, что об этих предметах вообще очень мало знают. На упрек: «Для чего подсудимых во все время процесса старались представить в смешном для них виде?» – Блудов будто бы отвечал, что это, по его мнению, было единственное средство если не спасти их, то, по крайней мере, облегчить их участь. Известен беспощадно строгий приговор об образе поведения Блудова, произнесенный Николаем Ивановичем Тургеневым в его книге.
193
В то же, кажется, время он делал некоторые попытки опять вступить в службу уже по гражданской части, но эти попытки не имели ни успеха, ни значения и делались как бы шутки или забавы ради.
194
Московской губернии в Дмитровском уезде. В те короткие мгновения, которые он провел в деревне, его полюбила молодая девушка из одного соседнего семейства. Болезненная и слабая, она не могла помышлять о замужестве, нисколько не думала скрывать своего чувства, откровенно и безотчетно отдалась этому чувству вполне и им была сведена в могилу. Любовь умирающей девушки была, может быть, самым трогательным и самым прекрасным из всех эпизодов его жизни. Я имел счастливый случай читать письма, ею тогда к нему писанные. Не знаю, как он отвечал на эту привязанность, исполненную высокой чистоты, святого самоотвержения, безусловной преданности, полного бескорыстия, но перед концом он вспомнил про нее как про самое драгоценное свое достояние и пожелал быть похороненным возле того нежного существа, для которого был всем, последнюю волю в точности выполнили.
195
Случай, с которого началось если не выздоровление его, то, по крайней мере, гораздо лучшее состояние, по-моему, довольно забавен: этому случаю он, большею частью, приписывал свое спасение, и не совсем был не прав, потому что очевидно, что им воспользовалась натура для благодетельного ею задуманного и совершенного перелома. Чаадаев больной был несносен для всех видевших его врачей, которым всегда всячески, сколько сил у него доставало, надоедал. Профессор Альфонский (потом ректор Московского университета), видя его в том нестерпимом для врача положении, которое на обыкновенном языке зовется «ни в короб, ни из короба», предписал ему «развлечение», а на жалобы: «Куда же я поеду, с кем мне видеться, как где быть?» – отвечал тем, что лично свез его в московский Английский клуб. В клубе он встретил очень много знакомых, которых и сам был доволен видеть и которые и ему обрадовались. Чаадаев, из совершенного безлюдья очутившийся в обществе, без всякого преувеличения мог быть сравнен с рыбой, из сухого места очутившейся в воде, с волком, из клетки попавшим в лес, пожалуй, с Наполеоном, из английского плена вдруг увидевшим себя свободным в Европе, во главе трехсот тысяч солдат. Побывавши в клубе, увидав, что общество удостаивает его еще вниманием, он стал скоро и заметно поправляться, хотя к совершенному здоровью никогда не возвращался. С тех пор, без дальних околичностей, он объявил профессора Альфонского человеком добродетельным (как после другого медика, доктора Геймана, про которого говорил, что «ему воздвигнул памятник в своем сердце»), своим спасителем, оказавшим ему услугу и одолжение не врача просто, но настоящего друга.
196
Его общественное положение в Москве, без всякого изменения продолжавшееся до конца его жизни, было собственно точно такое же, как и в Петербурге, с тою разницей, что к нему присоединились еще те оттенки, тот смысл и то значение, которые какому бы то ни было существованию сообщить в России может только одна Москва. Уловить этот смысл, это значение, эти оттенки, сколько я понимаю, довольно трудно, и они больше чувствуются, нежели определяются. Личность, обладающую совокупностью или отдельными чертами таких внешних признаков, я называю «московским авторитетом», к которым в очень высокой степени и без малейшего затруднения причисляю Чаадаева. «Московский авторитет» таковым делается собственно не по индивидуальной стоимости, не по знатности, не по богатству даже, хотя и то, и другое, и третье, и еще многое способствует ему вырабатываться; а по тому понятию, которое, без всякой другой причины, кроме своего произвола, соединяет с ним московское общество, по тем свойствам, иногда вовсе не существующим, которые этому обществу в нем угодно видеть, по тем качествам, действительным или вымышленным, которыми московскому люду иногда совершенно своевольно вздумается его наделить. Понятие о «московском авторитете» не принимает в соображение даже некоторых физических условий, например, пола или возраста. В таковые, и в самые значительные, попадали без числа женщины; иногда даже девушки и многообещающие юноши, двое последние, правда, гораздо реже. Для подтверждения сказанного в примерах, анекдотах и доказательствах недостатка нечего опасаться. Без таких авторитетов Москва никогда не живала и в них жаловала с невероятной прихотливостью иногда самых заметных и видных людей в России, иногда самых пустых, ничтожных и даже никуда не годных. Случалось, и даже очень случалось, хотя, разумеется, не далее известного, определенного, впрочем, весьма обширного круга, что иногда и каких ни на есть глупорожденных блаженных, полусумасшедших или плутоватых юродивых, полубешеных дураков и дур. Цель и пределы моей теперешней записки не позволяют мне распространиться обширнее об этом предмете: в другой работе надеюсь изложить подробно это диковинное, в высшей степени затейливое проявление московской жизни; я должен ограничиться только тем, что про него помянуть и обозначить, что в глазах большинства или толпы московской публики и Чаадаев некогда был таким «авторитетом». О положении же его перед глазами мыслящего меньшинства будет еще сказано отдельно.
197
Русским, французским, немецким и английским.
198
Русским и французским.
199
Во время появления и громкой знаменитости всем известной книги Страусса весьма образованные и очень неглупые люди различных верований и убеждений говорили, что в России только один Чаадаев в состоянии написать на нее опровержение.
200
По этому предмету, вероятно, были люди с огромными познаниями в рядах русских мистиков прошедшего столетия, но, не говоря про то, что ими ничего не оставлено, на чем бы можно было опереться, их знание неминуемо и прежде всего было специально и односторонне вследствие общеизвестных особенностей их воззрений.
201
Всего менее удовлетворительно он знал русскую историю, хотя в ней был довольно сведущ; факт, по-моему, весьма значительный.
202
В подтверждение этих слов да будет мне позволено привести следующий отрывок из одного из его сочинений: «Мир искони делился на две части – Восток и Запад. Это не только географическое деление, но также и порядок вещей, обусловленный самой природой разумного существа: это – два принципа, соответствующие двум динамическим силам природы, две идеи, обнимающие весь жизненный строй человеческого рода. Сосредоточиваясь, углубляясь, замыкаясь в самом себе, созидался человеческий ум на Востоке; раскидываясь вовне, излучаясь во все стороны, борясь со всеми препятствиями, развивается он на Западе. По этим первоначальным данным естественно сложилось общество. На Востоке мысль, углубившись в самое себя, уйдя в тишину, скрывшись в пустыню, предоставила общественной власти распоряжение всеми благами земли; на Западе идея, всюду кидаясь, вступаясь за все нужды человека, алкая счастья во всех его видах, основала власть на принципе права; тем не менее и в той, и в другой сфере жизнь была сильна и плодотворна; там и здесь человеческий разум не имел недостатка в высоких вдохновениях, глубоких мыслях и возвышенных созданиях. Первым выступил Восток и излил на землю потоки света из глубины своего уединенного созерцания; затем пришел Запад со своей всеобъемлющей деятельностью, своим живым словом и всемогущим анализом, овладел его трудами, кончил начатое Востоком и, наконец, поглотил его в своем широком обхвате. Но на Востоке покорные умы, коленопреклоненные пред историческим авторитетом, истощились в безропотном служении священному для них принципу и в конце концов уснули, замкнутые в своем неподвижном синтезе, не догадываясь о новых судьбах, которые готовились для них; между тем на Западе они шли гордо и свободно, преклоняясь только пред авторитетом разума и неба, останавливаясь только пред неизвестным, непрестанно устремив взор в безграничное будущее. И здесь они еще идут вперед – вы это знаете; и вы знаете также, что со времени Петра Великого и мы думали, что идем вместе с ними».
203
Эти случаи Чаадаев очень любил и имел слабость ими не в меру тешиться; при них всегда поминал словечко, которое будто бы сказала г-жа Сталь про одного русского: «Я его очень люблю и уважаю; невозможно быть лучше, умнее и образованнее, только удивительно, как многого этот человек не знает».
204
Это свойство его существа, довольно, впрочем, общее всем великим умам и за ними, без всякого сомнения, исключительное, прямо родственное тому, которому целый мир обязан знаменитым, до пошлости известным анекдотом Коломба с яйцом, проявлялось в нем постоянно и так же мало его покидало при рассматривании великих предметов, как и при виде пустейших, самых мелочных безделиц. За примерами ходить недалеко. Я мог бы привести их без числа. Ограничусь только тремя, по-моему очень характеристичными, и преднамеренно привожу их самые мелочные.
В одном кабачке, где мы обедали с Чаадаевым по крайней мере раз пятьдесят, и иногда не вдвоем только, висели две картинки, из которых одна изображала русского императора с его штабом, а другая – прусского короля с таковым же. Никогда никто в этих картинках ничего особенного не замечал до той поры, покамест в один день Чаадаев мне не сказал: «Посмотри, никто не видит, что в этих картинках – на одной орденские ленты все одеты на одну сторону, а на другой в другую; отчего бы это? А ведь догадаться нетрудно». Я признался, что причины не понимаю. «Это оттого, – продолжал он, – что на русских все ленты прусские, а на пруссаках все русские».
В одном доме мне понадобилось сделать перегородку высокой столярной работы, которая меня занимала. Рисунок я заказал хорошему, довольно известному художнику, исполнение вышло прекрасное, и вдобавок стоила она примечательно дешево. Известно, что столярная работа выкладывания стен деревом, так называемая «boiserie», в России и очень редка, и чрезвычайно дорога. Довольный успехом своей выдумки, я многим эту перегородку показывал и ни от кого ничего не слыхал, кроме что «очень, дескать, хорошо, и как это так дешево удалось?». Только что вошел в комнату Чаадаев и ее увидел, как сию же минуту заметил, что в рисунке есть очень смешной недостаток, что перегородка похожа на иконостас. Потом стоило на нее взглянуть, чтобы видеть, что он был прав.
У меня в комнате висел портрет очень известного всем входившим в комнату человека. Этот портрет видело очень много людей, и у меня, и в некоторых других местах, и никогда про него никто ничего не говорил. Как увидел его Чаадаев, немедленно в нем указал очень нелестное сходство с одним не совсем благородным животным, в чем прежде видевшие без всякого прекословия потом и согласились.
205
Михаил Яковлевич Чаадаев уехал из Москвы немного спустя после знакомства брата с Левашевым и даже бывал у него на новой квартире.
206
Екатерина Гавриловна Левашева, по слухам, была отличная и не совсем обыкновенная женщина: несмотря на мое короткое товарищество с одним из ее сыновей, я ее лично не знал.
207
При таких домах в Москве бывали – преимущественно, впрочем, до французов – собственные бани и пруды в садах, в которых иногда производилась и хозяйственная стирка белья. При левашевском доме, однако ж, ни пруда, ни бани не было.
208
Кто жил тут из дружбы, кто из милости, кто для удовольствия, кто по необходимости, кто потому, что без него не могли жить хозяева, кто потому, что сам без них обойтись не мог, кто, наконец, без всякой причины, только на том основании, что «земля кругла». Кроме Чаадаева, во флигеле этого двора жили еще некоторое время переводчик Шекспира Кетчер и стяжавший потом такую известность Михаил Александрович Бакунин. Когда, много годов спустя, Бакунин, взятый после дрезденского возмущения, был австрийцами выдан русскому правительству и содержался в Петропавловской крепости, в какой-то приезд двора в Москву граф Алексей Федорович Орлов, разговаривая с Чаадаевым, спросил его: «Не знавал ли ты Бакунина?» Чаадаев имел не совсем обыкновенную смелость ответить: «Бакунин жил у нас в доме и мой воспитанник». «Нечего сказать, хорош у тебя воспитанник, – сказал граф Орлов, – и делу же ты его выучил».
209
Большая часть его сочинений – в форме писем, иногда к лицам существовавшим, иногда же почти вымышленным. Столько известное письмо, помещенное в «Телескопе», должно было быть отрывком из целого ряда писем, адресованных к одной госпоже Пановой, которая в жизни Чаадаева никогда никакой роли не играла, никогда никакого значения не имела и, очень легко может быть, про существование писанных к ней писем или вовсе не знала, или знала очень смутно. Когда правительство вмешалось в это дело, госпожу Панову даже и не беспокоили.
210
Во время взрыва неудовольствия, произведенного его статьей в «Телескопе», укорам и брани: «Зачем и для чего русский пишет по-французски?» – не было никакого предела. В этом пустом, по самому себе вконец ничтожном обстоятельстве видели и отсутствие патриотизма, и измену и родному слову, и отечеству. Не знавшие Чаадаева, без дальних справок, прямо и просто уверяли, что он по-русски не понимает: даже его приятели утверждали, что с русской речью ему, как с французской, не совладеть. Когда потом ему случалось писать по-русски, многие, довольно близкие его знакомые дивились, как хорошо, бойко и ловко он управляет русским словом, как будто забывая, что оно ему коренное, природное… Простого же, нехитрого, столько естественного умозаключения, что писатель, на справедливом основании или нет, желающий быть читанным всеми людьми без различия их стран и происхождения, не имеет выбора в языке, что он не может писать на таком, которого никто не понимает и с которого почти что не существует переводов, что он должен писать на языке всемирном, повсеместно ведомом, никому и в голову не вошло.
211
Мне положительно известно, что одна из самых важных барынь в России графиня С. В. П., Чаадаева вконец не терпевшая, раз у себя вечером пересказывала своим гостям, и в их числе особенно одному, члену Государственного совета и в голубой ленте, что «вот, мол, какой дурак Чаадаев: он заказал свой портрет и велел написать себя в кандалах». Такого портрета ни Чаадаевым, ни кем другим никогда ни заказано, ни исполнено не было и никогда и нигде не существовало. Подобных анекдотов про него было множество, из которых большая часть глупы, но некоторые и довольно потешны.
С тех пор как это написано, этот дурацкий анекдот появился даже в печати, в немного стоящих лживых, скучных и бездарных «Записках Филиппа Филипповича Вигеля», помещаемых в одном из московских журналов («Русский Вестник», 1865 г., август, стр. 547 и друг.) Тут же приведена, да даже и то неверно, пушкинская надпись к портрету Чаадаева.
Вигель был постоянно непримиримым завистником Чаадаева, и гораздо спустя после эпохи «семеновской истории» – по случаю этой истории он говорит про него в этом месте «Записок», – живя временно в Москве, да и повсеместно, без какого бы то ни было успеха, всячески старался ему вредить. В сороковых годах он ему дал прозвание «лысого лжепророка», которое, вероятно, считал чрезвычайно острым и умным и которого надо ожидать в дальнейшем продолжении «Записок». Как этим случаем, так и вообще всей целостью своего поведения он подал повод Чаадаеву сказать одно из самых глубоких и верных своих изречений: «Un ennemi impuissant est le meilleur de nos amis: un ami jaloux est le plus cruel de nos ennemis» [Беспомощный враг – наш лучший друг; завистливый друг – наш худший враг. – Фр.].
212
Считаю необходимым заметить, что я не критикую и не обсуживаю здесь ничьих мнений, а только их пересказываю. В противном случае пришлось бы, быть может, при всем почтении к памяти историографа назвать упомянутую его звонкую фразу более блистательною, нежели дельною, более громкою, нежели смыслом обильною, для того что в божием мире нет и не было истории, не стоящей внимания, какой бы историку ни угодно было в ней видеть урок, отрицательный или положительный.
213
Для тех, которые не поверили бы, что такого рода вздор мог быть пересказываем, обрабатываем и приводим в систему людьми умными и просвещенными, представить доказательства нельзя, потому что, к сожалению, полного славянофильского катехизиса не существует. Помнящие то время очень хорошо знают, однако же, что в моем рассказе нет ни одного слова неправды. Ежели во всей своей полноте славянофильское учение никогда не высказывалось, то отдельные его положения или тезисы произносились поминутно с необычайной трескотнею и громом и в ежедневных беседах, и в книжках толстых журналов, и во всем памятных и знакомых прекрасных стихах, и с публичных кафедр ученых профессоров. Я готов уступить, что не все «славяне» так далеко зашли в своих мнениях, что между ними были степени; но в крайнем своем выводе их учение было именно таковым, каким я его изображаю. Его главнейшие представители, правда, немногие, до этих геркулесовских пределов безумия уже дошли; те же, которые их не достигнули, неизбежно и неумолимо должны были быть к ним приведены при мало-мальском соблюдении логичности и последовательности. Нельзя не добавить, что в самую минуту появления «чаадаевской» статьи славянофильская система еще не совсем созрела и выработалась, что ею-то именно и дан был этой системе окончательный, решительный толчок: беспощадные положения Чаадаева, вконец раздразнив самолюбие славянофилов, довели его до некоторого рода бешеного помешательства, заставили их отбросить всякую умеренность, опрокинули с рельсов их локомотив и своротили их со всякой разумной колеи.
214
На это положение Чаадаев в простом разговоре (сколько мне помнится, ни в одном из своих сочинений он этой мысли не излагал) возражал «славянам» в выражении столько же энергическом и исполненном картинной оригинальности, сколько неотразимым, уничтожающим образом, что ни Петр Великий, ни кто другой, никогда не был в состоянии похитить у какого бы то ни было народа его личности, что на свете нет и быть не может столько сатанической индивидуальности, которая возмогла бы в кратковременный срок человеческой жизни украсть у целого народа его физиономию и характер и унести их под полою платья.
215
Над этим желанием посмеивались иногда даже и некоторые из «славян», и сам Хомяков, в припадках своей, подчас очень любезной, веселости, с хохотом говаривал, что, «конечно, несказанно станут благословлять затопление Петербурга все дети русского отечества, но преимущественно те из них, которые в нем состоят хозяевами пятиэтажных доходных домов».
216
Лудвиг Бан.
217
Хотя история напечатания «чаадаевской статьи» очень известна, однако ж надобно пересказать ее здесь в самых немногих словах. Бывший профессор Московского университета Николай Иванович Надеждин издавал в Москве журнал под названием «Телескоп». Издание шло очень дурно и видимо клонилось к упадку. При таких обстоятельствах Надеждин твердо решился, по собственному его выражению, или «оживить свой дремлющий журнал, или похоронить его с честью». Получив статью Чаадаева, он вместе с нею получил от него и необдуманное неосторожное согласие ее напечатать. Цензора, Алексея Васильевича Болдырева, ректора Московского университета, уговорил именем своего давнишнего знакомства и общей безопасности, пропустить ее, не читая. Когда пришла пора наказаний и расправы, журнал был сию же минуту запрещен, а их обоих, и Надеждина, и Болдырева, потребовали в Петербург к ответу. Надеждин был сослан на жительство Вологодской губернии в город Усть-Сысольск. По прошествии некоторого времени он был прощен и умер, кажется, в Одессе. Алексея Васильевича Болдырева отставили от службы с неопределением никуда и с лишением пенсиона. Пенсион ему также был впоследствии возвращен, но в службу он уже более никогда не вступал и вскоре умер. Переводившего статью с французского для русской печати Кетчера вовсе не беспокоили. Пересказывать же содержание самой статьи Чаадаева я не стану после того, как это мастерски сделано Михаилом Николаевичем Лонгиновым, и особенно после того, как она напечатана в подлиннике в Париже, в числе некоторых других сочинений Чаадаева. «Oeuvres choisies de Pierre Tchadaief, publiées pour la première fois par le p. Gagarine de la compagnie de Jésus». Paris. Librairie A. Franck, Alb. Louis Herold Suce. 67, rue Richelieu; Leipzig, A. Franck’sche Verlagshandlung 10, 11. Quersstrasse. 1862.
218
Герценом.
219
Смешно было бы утверждать, что влияние, произведенное смертью Пушкина, было менее, но оно было совершенно разнородное и другого свойства. В кончине Пушкина ничего больше не видели и не могли видеть, как неизмеримую и невозвратную, преждевременную народную потерю, общую народную печаль, общий народный траур.
220
Хоть и не очень тому верится, однако ж в то время я слышал, будто студенты Московского университета приходили к своему начальству с изъявлением желания оружием вступиться за оскорбленную Россию и переломить в честь ее копье и что граф Строганов, тогдашний попечитель, их успокаивал.
221
Тогда существовал в Москве французский театр.
222
Я знаю достоверно, что в это время и по этому предмету имело место одним вечером жаркое прение в ныне еще, кажется, в Старой Басманной существующей аптеке некоего Штокфиша, причем без всякого сожаления немилосердным образом коверкали фамилию Чаадаева, произнося ее «Шатайиеф».
223
Замечательно, что и правительство, наказывая Чаадаева, не спросило его: «Признает ли он себя или нет автором статьи?» Тогда говорили, что если бы он вздумал от нее отпереться, то поставил бы всех в еще более, в логическом смысле, запутанное положение.
224
La Russie en 1839. Маркиз Кюстин прибавляет: «Pétersbourg et Moscou la sainte étaient en feu» [Петербург и святая Москва были в огне. – Фр.].
225
Я не знаю, кто именно придумал означенную меру. Тогда говорили, что ее почерпнули из какого-то закона, когда-то изданного Петром Великим, объявлять безумными тех, кто что-либо осмелится произнести против православной веры. Говорили еще, что правительство поступило с Чаадаевым особенно милостиво, т. е. не подвергнуло его какому-нибудь более чувствительному наказанию, ссылке, например, потому, что знало и приняло в соображение нехорошее положение его имущественных дел.
226
Льву Михайловичу Цынскому. Не знаю, непосредственно ли наперед по требованию Чаадаева к обер-полицеймейстеру, или непосредственно вслед за ним, одним из московских полицеймейстеров вместе с жандармским штаб-офицером был произведен домашний обыск в его квартире. Его бумаги отобрали и послали в Петербург. Потом некоторые были возвращены, другие там и остались. Тут же произошел забавный случай. В числе бумаг полиция захватила огромный ворох «Московских Ведомостей», причем Чаадаев заметил, что «этого брать не для чего, что это не бумаги – а бумага».
227
Наверное я того не знаю, но помнится, что слышал, будто вся бумага, во всей целости, была писана от имени «императорского величества».
228
Это больше, нежели вероятно, и именно так и было.
229
В продолжение того года с месяцем, в котором имело место официальное безумие Чаадаева, он не выезжал и не выходил никуда, ни в публичные места, ни в гости, но у себя имел свободу принимать кого и сколько хочет. Обер-полицеймейстер требовал у него подписки «ничего не писать», которой он не дал, говоря, что для этого «надо отнять бумагу, чернила и перья», и другой – «ничего не печатать», которую он немедленно и выдал. На его просьбу, дозволить ему ходить по улицам пешком, к чему он привык, что было необходимо для его здоровья и без чего, говорил он, «он жить не может», сейчас же согласились, и он мог гулять по городу, никуда не заходя, сколько и когда ему было угодно. Оставалось насильственное лечение от помешательства. Оно продолжалось, правда, очень короткое время – примерно с месяц, или немного более, – но все-таки имело место. Сначала к нему присылали частного врача той части, где он жил, и, кажется, к нему приезжал для консультации главный доктор дома умалишенных. Эти господа для формы прописали и какой-то рецепт, который где был писан, там и остался. Пульса не смотрели, и вообще к его физической особе никакого прикосновения никто не делал. Потом продолжал свои посещения тот же штаб-лекарь, но так как он был человек нетрезвый и часто являлся пьяным, то Чаадаев на него пожаловался обер-полицеймейстеру, угрожая, что будет писать графу Бенкендорфу. Угроза подействовала сильно и мгновенно. Частного штаб-лекаря немедленно удалили, а Чаадаева обер-полицеймейстер просил самому для себя назначить какого ему угодно из врачей, подведомственных полиции. С общего согласия оба они, и обер-полицеймейстер, и Чаадаев, избрали человека весьма почтенного, имя которого заслуживает быть сохраненным, известного в Москве доктора Гульковского, занимавшего по полиции важную медицинскую должность, Чаадаеву давнишнего знакомого и старинного приятеля, не раз и подолгу его лечившего. С ним дело и кончилось. Поведение Гульковского было безукоризненным поведением порядочного человека. В первый же свой приезд к Чаадаеву он начал свои медицинские пособия словами: «Вот в каких обстоятельствах пришлось нам увидаться, Петр Яковлевич; не будь у меня старухи жены и огромного семейства, я бы им сказал, кто сумасшедший».
230
Князь Д. В. Голицын был женат на сестре князя Иллариона Васильевича Васильчикова (Татьяне Васильевне) и знал Чаадаева еще тогда, когда он был адъютантом.
231
Алексей Степанович Хомяков сию минуту вслед за прочтением статьи готовил на нее, по своему мнению, уничтожающее громовое опровержение. Как только разнеслась весть о наказании, он своему намерению не дал никакого хода, говоря, что «и без него уже Чаадаеву достаточно неучтиво отвечали». Отказать себе в блистательной победе над сильным противником из расчетов утонченной деликатности – великодушие малообыкновенное.
232
Виктором Гюго.
233
«Apologie d’un fou».
234
Сюда могут быть отнесены два анекдота довольно многозначительные, показывающие, как мало иные высокопоставленные люди у нас принимали к сердцу самые важные и серьезные предметы и как вполне они заслуживают сделанное им раз Чаадаевым злое охарактеризование: «Какие они все шалуны». Михаил Федорович Орлов, имея случай видеться с графом Бенкендорфом и разговаривая с ним про Чаадаева, имел в то же время почти геройскую отвагу всячески отстаивать своего приятеля, говоря, между прочим, что «на его счет все ошибаются, что он суров к прошедшему России, но чрезвычайно много ждет от ее будущности». Не совсем понятно, как мог Михаил Федорович Орлов настолько заблуждаться: очевидно, что он добросовестно сам себя для собственного утешения ослеплял; да и к тому же очень хорошо известно, что человеки все вообще любят верить, когда верить хочется, и на дело самоутешения и самообольщений мастера: «Le passé de la Russie, – отвечал ему Граф Бенкендорф, – a été admirable; son présent est plus que magnifique; quant à son avenir il est au delà de tout ce que l’imagination la plus hardie se peut figurer: voilà, mon cher, le point de vue sous lequel l’histoire russe doit être connue et écrite» [Прошлое России было блестяще, ее настоящее более чем великолепно, а что касается ее будущего, оно превосходит все, что может представить себе самое смелое воображение. Вот, дорогой мой, с какой точки зрения следует понимать и описывать русскую историю. – Фр.].
Другой анекдот менее достоверен. Однако ж я его слышал и только как слышанный передаю. По миновании всех своих историй Чаадаев раз виделся с графом Алексеем Федоровичем Орловым и, сказывая ему, «что хотел бы побывать в Петербурге», спросил, «как он думает, будет ли эго угодно или нет государю». – «Почему же нет? – отвечал граф Орлов. – Ты там что-то против папы написал, да про то давно забыли; а в самом деле, не стыдно ли тебе, скажи на милость, уж и старика-то божьего, который никому ничего не делает, никого не трогает, и того-то ты не мог в покое оставить?»
Наклонности Чаадаева в пользу папизма были, однако же, довольно известны во всей России и, кажется, не должны бы оставаться тайною для графа Орлова, да и понятия его о римском владыке многие, я думаю, не затруднятся назвать не совсем достаточными и до некоторой степени поверхностными.
235
Герценом.
236
Я долго колебался, делать мне или нет это примечание… Что именно сделано Чаадаевым для русской истории, можно, я думаю, до некоторой степени пояснить примерами из того, что сделано другими по другим предметам. Возьмем в образец два из таких пособий. Его труды и мысли по отрасли русской истории очень аналогичны, мне кажется, с тем, что сделано Нибуром для истории римской и Руссо для воспитания. Нибур, уничтожая факты, не создал и не мог создать новых; но если бы и ни одно из его положений никуда не годилось, то все же благотворнейшим и неоцененным результатом его книги на вечные времена остался бы несравненный критический метод, удивительнейшее орудие, когда-либо человеком придуманное для ясного, верного и правильного понимания не голых, ничего не знаменующих фактов истории, но ее внутреннего, сокровенного значения и философского смысла. По книге Руссо никого нельзя воспитывать. Но она всецело и повсемирно изменила взгляд на воспитание. Так дело и важность вовсе не в большей или меньшей непогрешимости взглядов Чаадаева на русскую историю: неизмеримая его заслуга в том, что он первый указал, что те точки зрения, на которые прежде становились все, – неверны и ни к чему не ведущи, что старые пути с их избитыми колеями не имеют никакого практически-разумного приложения, что они, по своему существу, не могут быть плодотворными и поражены бессилием, что, словом, для постижения русской истории необходимы иные исходные пункты, иные методы, иные способы уразумевания.
237
Сказано Герценом.
238
Он стал опять входить в сношение со всеми без различия, как будто бы его «истории» никогда не существовало, с людьми официальными, правительственными, государственными, придворными, познакомился с митрополитом и бывал приглашаем на праздники, где присутствовали государь и двор. Только до личных сношений ни с государем, ни с членами императорской фамилии он не дожил.
239
Этим расположением к себе он пользовался не всегда умеренно.
Только раз, и то не очень надолго, смутилось это ясное настроение стихотворной перебранкой Языкова. Надобно заметить, что никому никакого вреда она не сделала, и если на кого какую тень и бросила, так скорее на самого Языкова. Так как она мало известна и, сверх того, очень длинна, то я ее и помещаю в особенном приложении.
Здесь же следует упомянуть о «современной песне» Дениса Давыдова, очень забавной стихотворной карикатурке, весьма, впрочем, мало обратившей на себя внимания. Привожу из нее стихи, относящиеся к Чаадаеву:
Говорили еще про эпиграмму на Чаадаева какого-то г. Неелова, примечательно глупую, но и довольно смешную, однако же:
240
Очень замечательно, что наиболее несогласные были с ним и наиболее дружными. Бешеный его противник Федор Иванович Тютчев часто говаривал: «L’homme, que je contredis le plus est aussi celui que j’aime le mieux» [Человек, с которым я больше всего спорю, это человек, которого я больше всего люблю. – Фр.]. Их споры между собою доходили до невероятных крайностей. Раз, середи Английского клуба, оба приятеля подняли такой шум, что клубный швейцар, от них в довольно почтенном расстоянии находившийся, серьезно подумал и благим матом прибежал посмотреть, не произошло ли в клубе небывалого явления рукопашной схватки и не пришлось бы разнимать драку.
241
Известных, объявленных, громко сказавших свое имя такого рода ненавистей насчитывалось очень мало, но в затаенных, зависти исполненных и под спудом хранящихся, должно быть, не было недостатка. Не говоря про озлобленное против него отвращение Ф. Ф. В. и князя ***, нелюбью которых можно только радоваться, указывали на одного из талантливых современных драматических писателей, будто бы обещавшего кругу своих друзей не знакомиться с Чаадаевым. Мне неизвестно, правда ли это, неизвестно, был или нет этот писатель лично с Чаадаевым знаком, но я знаю положительно, что он никогда не бывал у него в доме. Эти ненависти в недавнее время имели случай довольно громко высказаться. Вследствие на то некоторыми изъявленного желания одному общественному заведению в Москве (Английскому клубу) был подарен портрет Чаадаева. Меньшинство этот портрет приняло с удовольствием и даже повесило его на стену; большинство же подняло такой гвалт, что его дня через два должны были снять. Очевидцы мне пересказывали, что волнения, подобного тому, которое произошло по случаю портрета, в клубе никто не запомнит. В этот раз было с большой справедливостью замечено: «Il faut pourtant que cet homme fut bien et vraiment un homme supérieur pour pouvoir exciter de pareilles anthipathies huit ans après sa mort» [Должно быть, этот человек действительно был выдающимся, если и через восемь лет после своей смерти он еще вызывал подобные антипатии. – Фр.].
242
В письме к Михаилу Федоровичу Орлову.
243
Это то же самое лицо, которое выслужило от Николая Филипповича Павлова, может быть, самую мастерскую из его образцовых эпиграмм:
244
В длинный период времени всем известный умалишенный, один из самых высокородовитых и самых богатых людей России.
245
Выражение, которое я употребил, было «bassesse gratuite» [ненужная низость – фр.].
246
Константин и Михаил.
247
Двое из этих господ, люди совершенно независимые и без всякого общеизвестного пятна, были, конечно, искренни. Это правда, что третий принадлежал к разряду тех людей, которых брань и ругательство почетнее их похвалы.
248
Эти выходки в отношении к Хомякову были чрезвычайно редки и очень умеренны, однако ж были: им подвергались все без исключения, слишком часто с Чаадаевым видевшиеся.
249
Даже люди брутально свирепые, озлобленные, не терпевшие образа мыслей Чаадаева, всегда готовые заявить к этому образу мыслей ненависть и презрение, при таких заявлениях, по недостатку воспитания и светскости, почти никогда не умевшие отделить личности от мнений, грубым и наглым образом поражая мыслителя, всегда мужицки неловко хватавшие булыжником и по человеку, и те иногда приходили в себя и выдвигались с обворожительными предупредительностями. Когда в Москве выстроили и открыли нынешний Малый театр, тогдашний театральный директор М. Н. З., человек многосторонних и разнообразных известностей (про него придумана была одною из современных знаменитостей следующая, столько же колкая, обидная, сколько и несправедливая острота, будто «в устах подобных людей, что бы ни произнесли они, все лживо, глупо и отвратительно; что если бы им пришлось сказать, что два и два четыре, то, конечно, от них и это всякому показалось бы и неверным, и неумным, и низким»), – в первый раз, когда приехал в него Чаадаев, предложил ему: «не угодно ли его осмотреть», и этот осмотр произвел так, как будто театр показывал какому начальству. Любезностью З… Чаадаев был очень доволен. В городе об ней заговорили. З… же на вопрос: «Какой цели ради он совершил эту демонстрацию?» отвечал, что «давно искал случая публично показать Чаадаеву почтительное внимание, великодушно прощая ему его слабости, отпуская пороки, снисходя к прегрешениям, все-таки видя в нем человека с не совсем дурными зачатками» (Чаадаеву тогда было пятьдесят годов) «и, в сущности, благодушного, более несчастного, нежели виновного, испорченного уродливым, бестолковым, неблагоразумным, недовольно благочестивым воспитанием, пагубными примерами, растлевающей средой, ослепленного и лишенного основательности безумца, но не закоренелого и сознательного преступника». Известно, что еще гораздо прежде З… в одной из своих комедий вывел Чаадаева на сцену в свете, которому старался придать характер мало привлекательный, смешной и неблаговидный.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
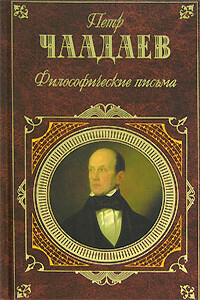
П.Я.Чаадаев (1794—1856), выдающийся русский мыслитель и публицист, при жизни опубликовал только одно свое произведение – первое письмо «Философических писем», после чего был объявлен сумасшедшим и лишен права печататься. Тем не менее Чаадаев оказал мощнейшее влияние на русскую мысль и литературу 19-го столетия. О нем писали и на него ссылались Пушкин, Герцен, Тютчев, Жуковский. Чаадаева сравнивали с Паскалем и Ларошфуко. Глубокий ум, честь и деятельная любовь к России освещают наследие П. Я. Чаадаева, оставляя его актуальным русским мыслителем и для современного читателя.
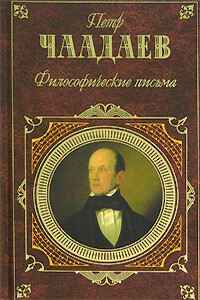
П.Я.Чаадаев (1794—1856), выдающийся русский мыслитель и публицист, при жизни опубликовал только одно свое произведение – первое письмо «Философических писем», после чего был объявлен сумасшедшим и лишен права печататься. Тем не менее Чаадаев оказал мощнейшее влияние на русскую мысль и литературу 19-го столетия. О нем писали и на него ссылались Пушкин, Герцен, Тютчев, Жуковский. Чаадаева сравнивали с Паскалем и Ларошфуко. Глубокий ум, честь и деятельная любовь к России освещают наследие П. Я. Чаадаева, оставляя его актуальным русским мыслителем и для современного читателя.
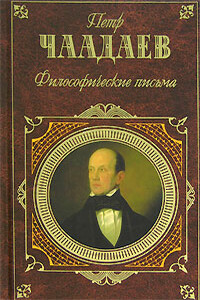
П.Я.Чаадаев (1794—1856), выдающийся русский мыслитель и публицист, при жизни опубликовал только одно свое произведение – первое письмо «Философических писем», после чего был объявлен сумасшедшим и лишен права печататься. Тем не менее Чаадаев оказал мощнейшее влияние на русскую мысль и литературу 19-го столетия. О нем писали и на него ссылались Пушкин, Герцен, Тютчев, Жуковский. Чаадаева сравнивали с Паскалем и Ларошфуко. Глубокий ум, честь и деятельная любовь к России освещают наследие П. Я. Чаадаева, оставляя его актуальным русским мыслителем и для современного читателя.
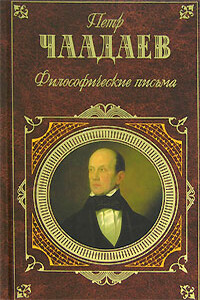
П.Я.Чаадаев (1794—1856), выдающийся русский мыслитель и публицист, при жизни опубликовал только одно свое произведение – первое письмо «Философических писем», после чего был объявлен сумасшедшим и лишен права печататься. Тем не менее Чаадаев оказал мощнейшее влияние на русскую мысль и литературу 19-го столетия. О нем писали и на него ссылались Пушкин, Герцен, Тютчев, Жуковский. Чаадаева сравнивали с Паскалем и Ларошфуко. Глубокий ум, честь и деятельная любовь к России освещают наследие П. Я. Чаадаева, оставляя его актуальным русским мыслителем и для современного читателя.

В Петербурге становится реальным то, что в любом другом месте покажется невероятным.Наводнение – бытовое явление. Северное сияние – почти каждую зиму, как и дождь в новогоднюю ночь. Даже появление привидения не очень удивляет. Петербуржцев скорее удивит отсутствие чудес.Петербург можно любить или не любить. Но мало кому удавалось игнорировать город. Равнодушных к Петербургу почти нет; лишь единицы смогли прикоснуться к нему и продолжать жить так, словно встречи не произошло.В Петербурге постоянно что‑то происходит в самых разных областях культуры.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге оцениваются события новейшей истории с позиций учения Даниила Андреева Роза Мира, а также дается краткое описание развития человеческой цивилизации под влиянием сил Света и Тьмы со времен Христа. Подробно описываются способы экономического порабощения Америкой стран Азии, Латинской Америки и др., роль США в развале Советского Союза, в госперевороте на Украине в 2014 году. Дается альтернативное общепринятому видение событий 11 сентября 2001 года. Описывается применение США психотронного оружия для достижения своих военных и политических целей, а также роль США в подготовке катастрофы планетарного масштаба под влиянием Противобога.Орфография и пунктуация автора сохранены.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Основным спорным вопросом в познании истины бытия окружающего материального мира является вопрос о существовании Бога. Если Бог существует, то сотворение жизни на Земле Богом, описанное в Книге Моисея, должно иметь научное подтверждение, так как творение Бога по изменению материи могло происходить лишь по физическим законам, которые присущи материи, и которые Бог изменить не может. Материя существовала всегда, то есть, бесконечно долго в прошлом времени, а Бог развился в какое-то время из материи, возможно даже по теории Дарвина.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Современный читатель и сейчас может расслышать эхо горячих споров, которые почти два века назад вели между собой выдающиеся русские мыслители, публицисты, литературные критики о судьбах России и ее историческом пути, о сложном переплетении культурных, социальных, политических и религиозных аспектов, которые сформировали невероятно насыщенный и противоречивый облик страны. В книгах серии «Перекрестья русской мысли с Андреем Теслей» делается попытка сдвинуть ключевых персонажей интеллектуальной жизни России XIX века с «насиженных мест» в истории русской философии и создать наиболее точную и объемную картину эпохи. Александр Иванович Герцен – один из немногих больших русских интеллектуалов XIX века, хорошо известных не только в России, но и в мире, тот, чье интеллектуальное наследие в прямой или, теперь гораздо чаще, косвенной форме прослеживается до сих пор.