Феномен Табачковой - [8]
Однако все это было позже. А тогда он вернулся с войны возмужавшим, в орденах и медалях, с горьким опытом в печальных глазах. Его спортивная фигура и мягкий тембр голоса с чуть вкрадчивыми, почти нежными интонациями и манерой говорить, участливо заглядывая собеседнику в глаза, производили впечатление. Неяркий, а потому не отпугивающий, но несомненно расцветший вдруг талант художника делал его и вовсе неотразимым. Он же, растерянный, печальный и ошалелый от того, что выжил, пришел оттуда, готов был обогреть на груди каждую, высушить все женские слезы. Но его ждала Аннушка.
Она всегда была убеждена, что ни один человек не имеет праве собственности на другого, и поэтому, исподволь наблюдая за кратковременными увлечениями мужа — а он не мог равнодушно сносить женские атаки, — никогда не закатывала ему сцен и не давала почувствовать себя в путах.
К нему же все тянулись и тянулись, узнавая и любя в нем черты тех, кто ушел в невозвратную ночь. В лучшем случае он утешал своих поклонниц тем, что оставлял на бумаге их силуэты, в которых Анна Матвеевна почему-то всегда находила свою челку и по-детски оттопыренную нижнюю губу. Но бывало, жалость его прорастала в ласку, и он одаривал ею ту или иную из своих почитательниц. А те, вкусив разок его нежной силы, нежданно по-бабьи репяхами цеплялись к нему, начиная предъявлять сомнительные права. По-настоящему ему нужна была лишь она, Аннушка… Она стала частью его самого, и этот симбиоз, казалось, не нарушится до самой смерти. Связывали их не только семейные радости и хлопоты, но и творческие промахи или удачи. Ее тонкий врожденный вкус часто выручал его; порой двух-трех мазков ее кистью было достаточно, чтобы полотно обрело долгожданную гармонию.
После очередного романа-жалости ходил, как нашкодивший мальчишка, молчал и старательно отводил в сторону свои прекрасные глаза. Она уже догадывалась, что это означает. Однако не чувствовала себя в чем-то обделенной. Подходила к нему на цыпочках, обнимала за плечи и, повернув к себе, прислонялась головой к груди. Неровно, словно исповедуясь, стучало его сердце, и ей хотелось приголубить мужа, как ребенка, который, увлекшись погоней за радужным мотыльком, налетел на дерево и расшиб лоб.
— Успокойся, нельзя же так, — говорила она в такие минуты. — Твое сердце стучит так громко, что его слышно даже моей сопернице.
То, что люди не бездонные колодцы, она поняла через пару лет после замужества. Но им с Сашенькой было не до скуки. Работа, дети так поглотили, закружили, что некогда было задумываться, счастливы ли они. Что за вопрос — конечно, да, да, и еще раз да. Их благополучие бросалось в глаза многим, и порой было чуточку неловко и стыдно перед подругами.
За год до рождения второго сына — приступ ревности. Сашенька вдруг стал ревновать ее неизвестно к кому. Наверное потому, что после первых родов вдруг проявилась ее, до сих пор неяркая женственность: округлилась фигура, поднялась грудь. Но, боже мой, до чего смешно было ревновать ее в то время — так была замотана семейными хлопотами! И все же непривычно хмуроватые взгляды Сашеньки нравились. Пожалуй, никогда еще не было так хорошо с ним, как теперь. Одно лишь замутняло их отношения: ее чрезмерная, порой доходящая до крайностей впечатлительность. Стоило услышать о том, что где-то, пусть в незнакомом доме, приключилась беда, как на нее нападали рассеянность, хандра и неприкаянность. Вдруг начинало неодолимо тянуть к краскам. Она забрасывала хозяйство, детей, прихватывала Сашенькин мольберт и уезжала на Перевал или в Алушту. В то время как ехать никуда и не надо было — вовсе не пейзажи появлялись из-под ее кисти. К примеру, узнав о пятилетней девочке, попавшей под машину, написала почти детски прозрачную акварель — на зеленом лугу, забрызганном разноцветьем ромашек, васильков, маков, веселятся малыши. А в центре, возвышаясь надо всеми, удлиненная фигура девочки в красном платьице. Она держит на раскрытой ладони крохотный, совсем не страшный автомобиль, лицо ее озаряет улыбка.
В такие дни Сашенька пытался чем-нибудь развлечь ее и все повторял с досадой: «Опять ноют чужие зубы?»
Она знала, что ее срывы не по душе ему, как могла, подавляла в себе приступы необузданного желания забросить все и писать, писать, писать. Со временем научилась управлять собой, поддерживать в доме спокойствие и порядок. Только рассеянность по-прежнему не могла одолеть в критические дни: вместо щепотки соли бросала в борщ всю пачку, ехала на работу в домашних тапочках, оставляла в автобусе сумку…
Забыв о еде и отдыхе, Табачкова допоздна прокручивала пленки. И, как вчера, был миг, когда перешагнула черту, отделяющую сегодняшний день от вчерашнего: и она, и Сашенька сошли с экрана и зажили прежней благополучной жизнью…
От перегретого аппарата в комнате пахло паленым. С трудом она вырвалась из воспоминаний, из их вязких, затягивающих объятий.
У порога вновь стояла ночь со своими голосами.
Еле дотащилась до постели в кухне на полу — так и не убрала с утра — и тут же уснула.
Следующий день был продолжением минувшего: окно, за которым по-прежнему моросило, закрывал плед, так же стрекотал в полутьме проектор и со стены улыбался Сашенька.

В книгу украинской писательницы вошли три повести, написанные в жанре социально-психологической фантастики. Внимание автора направлено на земной духовный космос. Обыденная реальность замешивается на фантастике не с развлекательной целью и не с замыслом чем-то изумить читателя, а для того, чтобы заново взглянуть на вечные ценности и проблемы нравственности.
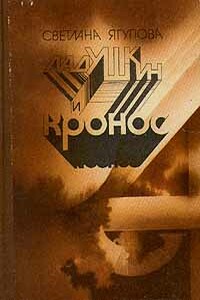
Ответственность перед природой и обществом, необходимость единения людей в самых необычных условиях — тема повести «В лифте».

В книгу украинской писательницы вошли три повести, написанные в жанре социально-психологической фантастики. Внимание автора направлено на земной духовный космос. Обыденная реальность замешивается на фантастике не с развлекательной целью и не с замыслом чем-то изумить читателя, а для того, чтобы заново взглянуть на вечные ценности и проблемы нравственности.

Без навязчивой морали автор касается проблем духовного мира человека и сохранения окружающей среды в повести «Берегиня».
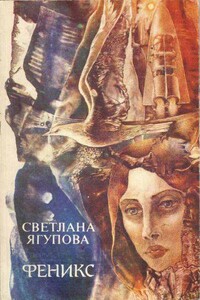
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
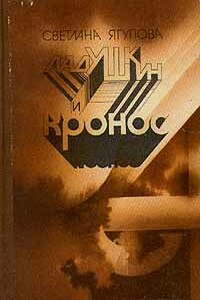
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
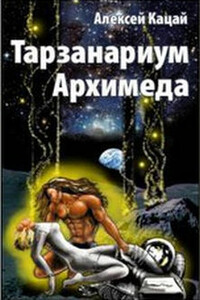
По некоторым сведениям, 90 % человеческой истории является криптоисторией, скрытой от широкой общественности. Кто знает, не существовала ли в действительности исследовательская группа, описанная в романах Жюль Верна и еще в позапрошлом веке добравшаяся до Луны? Не осуществляются ли в наше время секретные старты на соседку Земли? Так ли уж она безжизненна, как кажется госпоже Ш.Общественности? По крайней мере, существуют намеки на то, что не все так просто. А еще существует понимание того, что все мы вместе со своими странами — Россией или Украиной, Штатами или Канадой, Германией или Францией — только одинокие члены космической стаи, заблудившиеся в джунглях пространства и наших инстинктов…
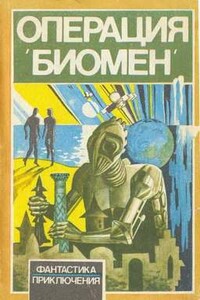
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Вы можете видеть это - вы можете смотреть это - но не должны трогать!» И что может быть более расстраивающим ... когда вам нужно, совершенно необходимо, взять его в руки всего на одну секунду ... Об авторе: Стивен Каллис (Stephen A. Kallis, Jr. - 1937 г.р.) - американский писатель, автор нескольких фантастических рассказов и статей.

Профессор Стивенс твердо намерен отыскать следы затонувшей страны наследников Атлантиды и снаряжает новейшую подводную лодку в экспедицию. Когда субмарина отчалила в свое необычайное путешествие, на ее борту находился безбилетный пассажир — начинающий репортер Ларри Хантер…
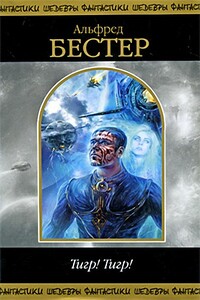
Альфред Бестер — великий экспериментатор и великий разрушитель традиций. Чарлз Грэнвилл обычный двадцатипятилетний молодой человек, мечтающий о карьере практикующего врача, о скорой женитьбе и хорошем стабильном будущем. Единственное его отличие в том, что он способен слышать музыку и чувствовать поэзию в повседневной реальности и даже в ирреальности собственных снов. И именно ему возможно предначертано пошатнуть вселенскую гармонию и стать тем мессией, который выберет среди аверсной и реверсной вселенных ту, которая и станет единственно существующей.