Фармазон - [4]
Да, изнанка человечьей жизни была невзрачной, трухлявой. Изголовье, там, где касалось грядок, осыпано странной белесой перхотью, словно бы натрусившейся с волос. Сминая брезгливость, Тяпуев наклонился, близоруко разглядел следы былых клоповых поселений и игрищ, тоже бесследно исчезнувших, а может, откочевавших в иные домы, где нашлась для пропитанья свежая молодая кровь. С мстительным и сладким торжеством выбросил Тяпуев рухлядь за сарайку, и брезентовые рукавицы-верхонки тоже выкинул, точно и они успели впитать в себя клопиное трупьё, заразу и плесень. Лишь на одно мгновение пробудилось в Иване Павловиче некоторое недоумение от всего увиденного, жизнь прожитая вдруг перепуталась, и он растерянно оглядел сумрачную опустевшую кухню, протертые четыре следка от кровати и темное пятно на полу, куда не доставал свет. Ему показалось, что он в чем-то обманулся ранее в своих представлениях иль был нехорошо обманут, а на самом-то деле вся жизнь Усанов была иной, вовсе незавидной по нынешним-то меркам, обыденной и грязной, и поднявшаяся в душе жалость к себе ли иль к тем, кто когда-то бытовал здесь, защемила горло. Но беспокойство мимолетно прояснилось и тут же затухло. Иван Павлович сразу подсказал себе, что тут жировали кулаки, и память услужливо вернула Тяпуева в двадцатые годы, когда эта кровать с точеными шарами и тремя пуховыми перинами под потолок, медный ведерный самовар, норвежские часы с боем и поставец для посуды казались богатством недосягаемым и необыкновенно завидным. Ведь сам-то Ванька Тяпуев, чего скрывать, родился на дощатом примосте возле двери, крытом всякой рваниной и оленьей вытертой полостью; вместо молочной титьки получил в орущую пасть хлебный жевок; крутой кипяток пил из чугуника и спал в душной темени полатей, куда скидывалась вся сохнущая одежонка… Вроде бы сорок лет пробыл с той поры в больших городах, и жил-то в достатке и при почестях, и думалось, что прошлое кануло в невозвратную темь, а вот навестил родимую Вазицу – и все вспомнилось разом, словно бы память дожидалась своего часа.
Днище карбаса скрежётнуло о подводный камень-луду, мотор поперхнулся, зауросил, но под властной рукой Коли Базы выправил ровный бег и повлек посудину в кипящую толчею, туда, где русло неожиданно расступалось и из-за песчаной пологой косы наотмашь захлестывало море. Волны часто захлопали о борта, взводень плеснулся о тупые скулы карбаса и обвеял всех водяной пылью. Мужики сразу очнулись, словно бы пробудились, стали кутаться, что находили под рукой, ибо как бы вдруг похолодело, воздух выстудился, окутал тело, старался пробить одежды. Осень, куда денешься: тут в море без тулупов и овчин не суйся, иначе заколеешь, как кочерыжка, язык во рту зальдится, и руки будет не поднять, чтобы убрать из-под носа зеленые вожжи. Даже Коля База вытащил из рундучка кожаный картуз и прикрыл темя.
Вороха облаков прогнулись над вспухшей водой, точно небрежно навитые валы сена, они грядами уходили в дальний край, где море переливалось в небо, но меж теми ворохами хоть бы блесток сини нашелся, хоть бы крошечная лужица солнечной влаги – там студенистый мрак возносился, едва сочась дождем. Теперь, считай, до самой зимы заколодило, до ноября осень развесила свои полотенца, и, знать, от их гнетущей тяжести едва колебалась морская бездна, и лишь черная слоистая рябь тихо накатывалась, как по стеклу, не тревожа глубин. Деревня, прежде скрытая за угором, как бы вывернулась из затайки, сейчас хорошо видимая глазу. Она свинцовой подковкой легла у излучины реки, вила редкие дымы, вялые, белесые, но отсюда, с морской равнины, казалась особенно родимой, домашней. И белая церквушка в седловинке меж двух холмин прояснилась, приподнялась, как бы отделенная от земли, воспарила, и теперь она долго будет следовать за карбасом, дозорить, наблюдая, как там с мужиками, не случилось ли беды.
Вот и раньше, как с моря идут, уже далеко, словно мираж, над синим излучьем берега и над легким волнистым туманцем лукоморья встанет храм лебединым крылом, и сразу возвеселится, обрадеет усталая душа помора, очумевшего от долгих промыслов, зачугуневшего от месячной стужи и недосыпа, словно бы коростой покрытого долгой грязью, звериной слизью и кровью. А показалась церквуха – считай, что прибыли, и хотя далеко еще домы, но вроде бы и своих уже видишь на берегу. Вон они дожидаются – Манька, Иваненко, Гришуха, баба своя истосковавшаяся, соседи, сродники, и бани уже топятся, березовый дух стелется по-над тундрой, собаки брешут, одурели от радости, старики ёрничают, молодея на глазах, кто побоевей из домашних – палят в белый свет, как в копейку; Боже-Боже, народу-то, как морошки в урожайный год, дождинке некуда упасть… И пускай душа еще не отмякла, она еще угрюмится в ледяной пустоте, словно сжатая обручами, но в ее глубине при виде благословенного берега что-то вдруг так ворохнется, так подымется к горлу и защемит, что и слезина нет-нет да и проступит на глазу, вовсе даже и не стыдная слеза. Да ежели еще с удачного промыслу идут, так, завидя божью обитель, мужики без особого окрика кормщика сами налягут на греби, будто и не было позади долгого пути, до хруста выгнут хребтины, последние силы выплеснут, а их вроде бы и не убывает, они сами родятся. Нет, что ни говори, а приметы родины милой подымают сердце куда как высоко и торжественно: хоть век ты не маливался, самый-то еретик на еретике и нехристь, но, завидя в небе белую луковку церкви, воспрянешь и запоешь…
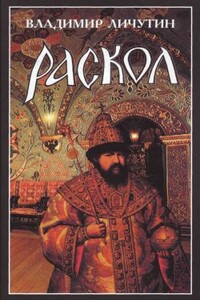
Владимир Личутин впервые в современной прозе обращается к теме русского религиозного раскола - этой национальной драме, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне.Роман этот необычайно актуален: из далекого прошлого наши предки предупреждают нас, взывая к добру, ограждают от возможных бедствий, напоминают о славных страницах истории российской, когда «... в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно обросла землями и вновь стала великою».Роман «Раскол», издаваемый в 3-х книгах: «Венчание на царство», «Крестный путь» и «Вознесение», отличается остросюжетным, напряженным действием, точно передающим дух времени, колорит истории, характеры реальных исторических лиц - протопопа Аввакума, патриарха Никона.Читателя ожидает погружение в живописный мир русского быта и образов XVII века.
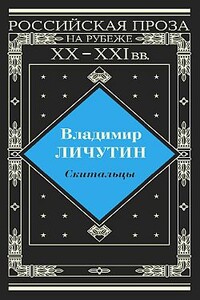
Исторический роман «Скитальцы» посвящен русскому религиозному расколу, который разъял все общество на две непримиримые стороны. Владимир Личутин впервые в сегодняшней литературе глубоко и всесторонне исследует этот странный потусторонний и реальный мир, эту национальную драму, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский парод и поныне, подтверждая евангельскую заповедь: «Всякое царствие, разделившееся в себе, не устоит».Роман полон живописных картин русского быта, обрядов, национальных обычаев, уже полузабытых сейчас, - той истинной поэзии, что украшает нашу жизнь..Если в первой книге героям присущи лишь плотские, житейские страсти, то во второй книге они, покинув родные дома, отправляются по Руси, чтобы постигнуть смысл Православия и отыскать благословенное и таинственное Беловодье - землю обетованную.Герои романа переживают самые невероятные приключения, проходят все круги земного ада, чтобы обрести, наконец, духовную благодать и мир в душе своей.
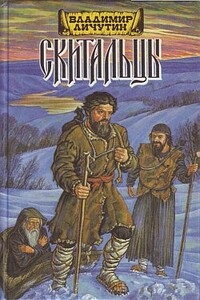
Исторический роман «Скитальцы» посвящен русскому религиозному расколу, который разъял все общество на две непримиримые стороны. Владимир Личутин впервые в сегодняшней литературе глубоко и всесторонне исследует этот странный потусторонний и реальный мир, эту национальную драму, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне, подтверждая евангельскую заповедь: «Всякое царствие, разделившееся в себе, не устоит».Роман полон живописных картин русского быта, обрядов, национальных обычаев, уже полузабытых сейчас, – той истинной поэзии, что украшает нашу жизнь.
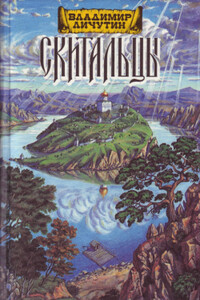
Исторический роман «Скитальцы» посвящен русскому религиозному расколу, который разъял все общество на две непримиримые стороны. Владимир Личутин впервые в сегодняшней литературе глубоко и всесторонне исследует этот странный потусторонний и реальный мир, эту национальную драму, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне, подтверждая евангельскую заповедь: «Всякое царствие, разделившееся в себе, не устоит».Роман полон живописных картин русского быта, обрядов, национальных обычаев, уже полузабытых сейчас, – той истинной поэзии, что украшает нашу жизнь.

Владимир Личутин по профессии журналист. «Белая горница» — его первая книга. Основу ее составляет одноименная повесть, публиковавшаяся до этого в журнале «Север». В ней рассказывается о сложных взаимоотношениях в поморской деревне на Зимнем берегу Белого моря в конце двадцатых годов.В сборник вошли также очерки о сегодняшней деревне, литературные портреты талантливых и самобытных людей Севера.
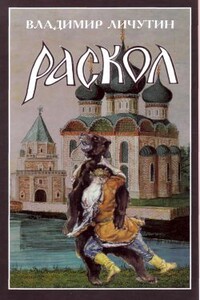
Владимир Личутин впервые в современной прозе обращается к теме русского религиозного раскола - этой национальной драме, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне.Роман этот необычайно актуален: из далекого прошлого наши предки предупреждают нас, взывая к добру, ограждают от возможных бедствий, напоминают о славных страницах истории российской, когда «... в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно обросла землями и вновь стала великою».Роман «Раскол», издаваемый в 3-х книгах: «Венчание на царство», «Крестный путь» и «Вознесение», отличается остросюжетным, напряженным действием, точно передающим дух времени, колорит истории, характеры реальных исторических лиц - протопопа Аввакума, патриарха Никона.Читателя ожидает погружение в живописный мир русского быта и образов XVII века.
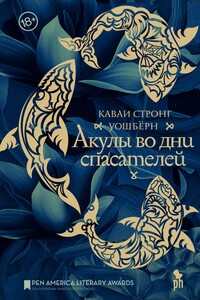
1995-й, Гавайи. Отправившись с родителями кататься на яхте, семилетний Ноа Флорес падает за борт. Когда поверхность воды вспенивается от акульих плавников, все замирают от ужаса — малыш обречен. Но происходит чудо — одна из акул, осторожно держа Ноа в пасти, доставляет его к борту судна. Эта история становится семейной легендой. Семья Ноа, пострадавшая, как и многие жители островов, от краха сахарно-тростниковой промышленности, сочла странное происшествие знаком благосклонности гавайских богов. А позже, когда у мальчика проявились особые способности, родные окончательно в этом уверились.
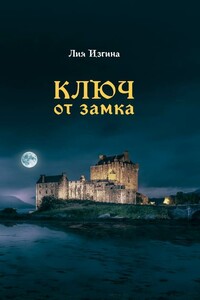
Ирен, археолог по профессии, даже представить себе не могла, что обычная командировка изменит ее жизнь. Ей удалось найти тайник, который в течение нескольких веков пролежал на самом видном месте. Дальше – больше. В ее руки попадает древняя рукопись, в которой зашифрованы места, где возможно спрятаны сокровища. Сумев разгадать некоторые из них, они вместе со своей институтской подругой Верой отправляются в путешествие на их поиски. А любовь? Любовь – это желание жить и находить все самое лучшее в самой жизни!
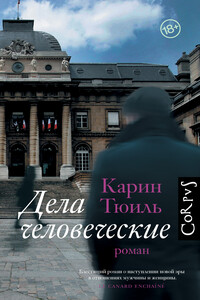
Французская романистка Карин Тюиль, выпустившая более десяти успешных книг, стала по-настоящему знаменитой с выходом в 2019 году романа «Дела человеческие», в центре которого громкий судебный процесс об изнасиловании и «серой зоне» согласия. На наших глазах расстается блестящая парижская пара – популярный телеведущий, любимец публики Жан Фарель и его жена Клер, известная журналистка, отстаивающая права женщин. Надлом происходит и в другой семье: лицейский преподаватель Адам Визман теряет голову от любви к Клер, отвечающей ему взаимностью.
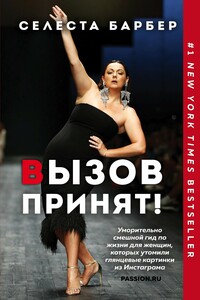
Селеста Барбер – актриса и комик из Австралии. Несколько лет назад она начала публиковать в своем инстаграм-аккаунте пародии на инста-див и фешен-съемки, где девушки с идеальными телами сидят в претенциозных позах, артистично изгибаются или непринужденно пьют утренний смузи в одном белье. Нужно сказать, что Селеста родила двоих детей и размер ее одежды совсем не S. За восемнадцать месяцев количество ее подписчиков выросло до 3 миллионов. Она стала живым воплощением той женской части инстаграма, что наблюдает за глянцевыми картинками со смесью скепсиса, зависти и восхищения, – то есть большинства женщин, у которых слишком много забот, чтобы с непринужденным видом жевать лист органического салата или медитировать на морском побережье с укладкой и макияжем.
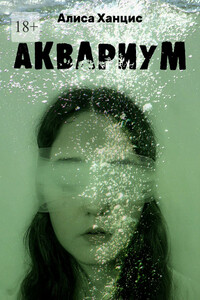
Апрель девяносто первого. После смерти родителей студент консерватории Тео становится опекуном своего младшего брата и сестры. Спустя десять лет все трое по-прежнему тесно привязаны друг к другу сложными и порой мучительными узами. Когда один из них испытывает творческий кризис, остальные пытаются ему помочь. Невинная детская игра, перенесенная в плоскость взрослых тем, грозит обернуться трагедией, но брат и сестра готовы на всё, чтобы вернуть близкому человеку вдохновение.
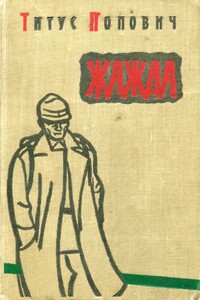
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.