Евтидем - [6]
— Скажи мне, Сократ. — молвил он, — и вы, все остальные, утверждающие, что стремитесь одарить мудростью этого юношу, говорите ли вы это в шутку или серьезно и взаправду испытываете такое желание?
Тут я решил, что они раньше подумали, будто мы шутили, когда просили их обоих побеседовать с мальчиком, и потому поддразнивали их, а не хранили серьезность; и, помыслив так, я еще раз подтвердил, что мы относимся к этому делу на удивление серьезно.
А Дионисодор в ответ:
— Смотри, Сократ, не отрекись потом от того, что сейчас сказал.
— Я уже предусмотрел это, — возразил я, — и никогда от этого не отрекусь в будущем.
— Так, значит, — сказал он, — вы утверждаете, будто хотите, чтобы он стал мудрым?
— Очень хотим.
— А в настоящее время, — спросил он, — мудр Клиний или же нет?
— Ну уж об этом-то он помалкивает, ему ведь не свойственно хвастовство.
— Но вы-то, — сказал он, — хотите, чтобы он стал мудрым и не был невежественным?
Мы согласились.
— Значит, вы хотите, чтобы он стал тем, чем он сейчас не является, и чтобы таким, каков он сейчас есть, он впредь уже никогда не был.
Услышав это, я пришел в замешательство, он же, подметив мое смущение, продолжал:
— Так разве, желая, чтобы он впредь не был тем, что он есть сейчас, вы не стремитесь его, как кажется, погубить? Хороши же такие друзья и поклонники, которые изо всех сил желают гибели своего любимца!
Но тут Ктесипп, услышав это, вознегодовал из-за любимого мальчика и поднял голос:
— Фурийский гость. — сказал он. — Если бы это не было чересчур неучтиво, я бы тебе ответил: «Погибель на твою голову!»[26] Что это ты вздумал ни с того ни с сего взвести на меня и на других такую напраслину, о которой, по-моему, и молвить-то было бы нечестиво, — будто я желаю погибели этому мальчику!
— Как, Ктесипп, — вмешался тут Евтидем. — ты считаешь, что возможно лгать?
— Да, клянусь Зевсом, — отвечал тот, — если только я не сошел с ума.
— А в каком случае — если говорят о деле, о котором идет речь, или если не говорят?
— Если говорят, — отвечал тот. — Но ведь если кто говорит о нем, то он называет не что иное из существующего, как то, о чем он говорит?
— Что ты имеешь в виду? — спросил Ктесипп.
— Ведь то, о чем он говорит, является одним из существующего, отдельным от всего прочего.
— Разумеется.
— Значит, тот, кто говорит об этом, говорит о существующем?
— Да.
— Но ведь тот, кто говорит о существующем, говорит сущую правду. Так и Дионисодор, коль скоро он говорит о существующих вещах, говорит правду, а вовсе не клевещет на тебя.
— Да, — отвечал Ктесипп. — Но тот, Евтидем, кто говорит подобные вещи, говорит о том, чего нет.
А Евтидем на это:
— Разве то, чего нет, — это не то, что не существует?
— Да, то, что не существует.
— И дело обстоит разве не так, что то, чего нет, нигде не существует?
— Нигде.
— Возможно ли, чтобы кто-нибудь — кем бы он ни был — так воздействовал на это, чтобы создать его — это нигде не существующее?
— Мне кажется, невозможно, — отвечал Ктесипп.
— Так что же, когда ораторы говорят в народном собрании, разве они ничего не делают?
— Нет, делают, — отвечал тот.
— Но раз они что-то делают, значит, и что-то создают?
— Да.
— Следовательно, говорить — это значит что-то делать и создавать?
Ктесипп согласился.
— Значит, никто не говорит о несуществующем: ведь при этом он что-то делает, а ведь ты признал, что ни для кого невозможно создать несуществующее: вот по твоему слову и выходит, что никто не произносит лжи и, если Дионисодор говорит, он говорит об истинно существующем.
— Клянусь Зевсом, Евтидем! — воскликнул Ктесипп. — Говорит-то он некоторым образом о существующем, но в неправильном смысле.
— Что ты имеешь в виду, Ктесипп? — спросил Дионисодор. — Не то ли, что существуют люди, называющие вещи своими именами?
— Да, добропорядочные люди и те, что говорят правду.
— Но разве, — возразил тот, — хорошее не бывает хорошим, а дурное — дурным?
Ктесипп сказал, что бывает.
— А ты признаешь, что хорошие люди называют вещи своими именами?
— Признаю.
— Значит, хорошие люди говорят дурно о дурном, раз они все называют своими именами.
— Да, клянусь Зевсом, — отвечал тот, — и даже очень дурно, когда речь идет о дурных людях. И ты поостережешься быть в числе этих последних, если меня е послушаешься, дабы хорошие люди не говорили о тебе дурно.
— И о людях высоких они говорят высоким слогом, а о горячих говорят горячо?
— В высшей степени так, — отвечал Ктесипп. — А о холодных людях они говорят холодно, как и о прохладных их рассуждениях.
— Бранишься ты, Ктесипп, — бросил Дионисодор, — да, бранишься.
— Нет, клянусь Зевсом, — отвечал тот, — я не бранюсь, потому что люблю тебя и по-дружески наставляю и пытаюсь убедить никогда не выступать против меня так грубо, утверждая, будто я желаю гибели тем, кого ценю превыше всего.
А я, поскольку мне показалось, что они слишком резко друг против друга настроены, шутливо обратился к Ктесиппу со словами:
— Ктесипп, мне кажется, нам надо принять от наших гостей их речи, коль скоро они желают их нам подарить, и мы не должны спорить с ними из-за имен.
Если им дано так губить людей, что из дурных и неразумных они могут сделать достойных и благоразумных, то сами ли они изобрели это или от другого кого научились такому уничтожению и порче, с помощью которых они, разрушив скверного человека, воскрешают его хорошим, если они это умеют (а ведь ясно, что умеют: они заявили, что их недавно обретенное искусство состоит в том, чтобы делать дурных людей хорошими), то уступим им в этом: пусть они погубят нам мальчика и сделают его разумным, а также и всех нас.
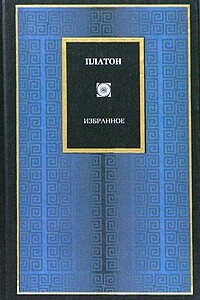
В центре «Апологии Сократа» (392 до н.э.) – первом законченном и дошедшем до нас тексте Платона – проблема несовместимости индивидуальной добродетели и существующего государственного устройства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Диалог "Государство" по своим размерам, обилию использованного материала, глубине и многообразию исследуемых проблем занимает особое место среди сочинений Платона. И это вполне закономерно, так как картина идеального общества, с таким вдохновением представленная Сократом в беседе со своими друзьями, невольно затрагивает все сферы человеческой жизни — личной, семейной, полисной — со всеми интеллектуальными, этическими, эстетическими аспектами и с постоянным стремлением реального жизненного воплощения высшего блага.

В диалоге «Федр» всего два собеседника, мирно сидящих под платанами у почти пересохшей летом реки Илис. Это Сократ и Федр.Тема их беседы напоминает «Пир», хотя здесь нет поисков сущности любви, но зато раскрывается ее неистовая, безумная сторона, ее роль в становлении души на путях блага и в создании подлинной философии, а не пустого красноречия.
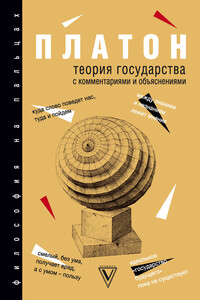
Древнегреческий философ Платон был учеником Сократа, которого высоко чтил, и учителем Аристотеля. Считая, что настоящая философия может существовать только при условии постоянного диалога, Платон и свои произведения написал в такой же форме, сделав главным героем Сократа и вложив в его уста собственные мысли. «Государство» Платона – первая в истории человечества попытка построить модель общества, в котором все были бы счастливы, и модель государства, где каждый бы делал то, что у него лучше получается.
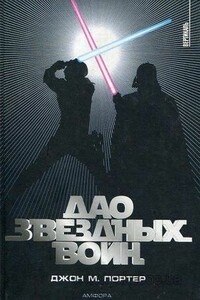
Что общего между «Дао-Дэ цзин», основополагающим текстом даосизма, и популярным киносериалом «Звездные войны», созданным голливудским мэтром Джорджем Лукасом? По словам автора, толчком к написанию этой книги послужила мысль о том, что «Звездные войны» способствуют пониманию даосизма, его жизнеспособной системе духовных ценностей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Перевод книги, вышедшей только что в ФРГ и имевшей большой резонанс. Автор - видный представитель консервативной политической философии, профессор университета Хоэнхайм в Штутгарте, - предупреждает об опасности одностороннего либерализма, который притязает на самостоятельное решение всех проблем и заводит общество в тупик. Выход из кризиса либерализма автор видит в возрождении класического либерализма и в непременном взаимодействии его с новым, демократическим консерватизмом.Книга адресована не только немецкому, но и российскому читателю.

Книга является уникальным путеводителем по науке будущего, контуры которой выстраиваются через беседы автора с рядом влиятельных мыслителей нашего века — В.Гейзенбергом, Дж. Кришнамурти, Г.Бэйтсоном, С.Грофом, А.Уотсом, Р.-Д.Лэйнгом и других. Следуя за Капрой, мы оказываемся на передовом рубеже таких разных дисциплин, как физика, медицина, футурология, психиатрия, семейная терапия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
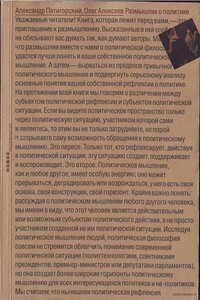
Предмет размышлений философов Александра Пятигорского и Олега Алексеева - политическое мышление и политическая философия. Одним из стимулов к написанию этой книги стало эмпирическое субъективное ощущение авторов, что определенный период развития политического мышления завершился в конце XX века. Его основные политические категории - абсолютная власть, абсолютное государство, абсолютная революция и абсолютная война - исчерпали себя уже несколько десятилетий назад. Александр Пятигорский и Олег Алексеев уверены: мир входит в новую фазу политической рефлексии, которая отмечена иным пониманием времени.
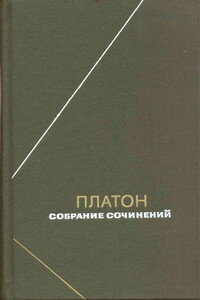
В первый том Собрания сочинений Платона входят ранние диалоги философа, относящиеся к периоду формирования его учения. Идея тома в целом - прослеживание пути становления платонизма. Все тексты заново отредактированы.
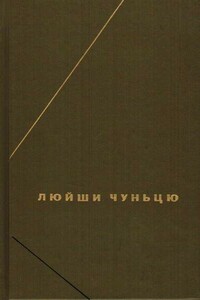
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

