Евтидем - [11]
— Никогда, Сократ, не бывало, — отвечал Дионисодор.
— Что вы имеете в виду? — спросил я. — Быть может, вы ничего не знаете?
— Как бы не так! — отозвался он.
— Значит, вы всё знаете, коль скоро знаете что-либо?
— Всё, — отвечал он. — И ты так же, если знаешь что-либо одно, знаешь всё.
— Великий Зевс! — воскликнул я. — О каком чуде ты говоришь и сколь великое возвещаешь благо! Так и другие люди либо всё знают, либо ничего?
— Конечно. Ведь невозможно, чтобы одно они знали, а другое нет и одновременно были бы знающими и незнающими.
— Ну а все-таки? — переспросил я.
— Все, — отвечал он, — знают всё, если они знают что-либо одно.
— Но ради богов, Дионисодор, — взмолился я, — теперь-то мне ясно, что вы говорите серьезно (еле-еле удалось мне от вас этого добиться!); итак, вы в самом деле знаете всё — и плотничье ремесло, и сапожничье?
— Конечно, — отвечал он.
— И накладывать швы из жил вы умеете?
— И тачать сапоги, клянусь Зевсом, — отвечал он.
— Ну а такие вещи — например, сосчитать, сколько звезд в небе или песка на дне морском?
— Разумеется, — подтвердил он. — Или ты думаешь, что мы в этом не признаемся?
Тут Ктесипп не выдержал.
— Ради Зевса, Дионисодор, — сказал он, — дайте мне такое доказательство этих слов, чтобы я поверил в их истинность.
— Какое же мне дать доказательство? — возразил Дионисодор.
— А вот: знаешь ли ты, сколько зубов у Евтидема, а Евтидем — сколько их у тебя?
— Не довольно ли тебе знать, — отвечал Дионисодор, — что нам известно решительно всё?
— Нет, не довольно; скажите нам лишь это одно и докажите, что вы говорите правду. И если каждый из вас скажет, сколько у другого зубов, и после того, как мы сосчитаем, вы окажетесь знатоками, мы поверим вам и во всем остальном.
Почувствовав насмешку, они не уступили в этом Ктесиппу, ограничившись утверждением, что знают все вещи, о которых он спрашивал их в отдельности. А Ктесипп кончил тем, что совершенно откровенно стал спрашивать их обо всем на свете, вплоть до вещей уж совсем непристойных, — знают ли они их; те же два храбреца шли напролом, утверждая, что знают, — ни дать ни взять кабаны, прущие прямо на нож, так что я и сам, Критон, побуждаемый недоверием, в конце концов спросил, умеет ли Дионисодор плясать.
А он:
— Ну конечно, умею, — говорит.
— Но уж само собой, — возразил я, — ты не можешь кувыркаться на остриях мечей и вертеться колесом — в твоем-то возрасте! Ведь не столь далеко зашел ты в своей премудрости.
— Нет ничего, — отвечал он, — чего бы мы не умели.
— Но, — спросил я, — вы только теперь всё знаете или вам всегда всё было известно?
— Всегда, — отвечал он.
— И когда детьми были, и даже новорожденными, вы тоже всё знали?
Оба в один голос подтвердили это.
— Но нам это кажется невероятным.
А Евтидем в ответ:
— Тебе это кажется невероятным, Сократ?
— Всё, за исключением того, что вы, на мой взгляд, мудрецы.
— Но если ты пожелаешь мне отвечать, — сказал он, — я покажу, что и тебе свойственно признаваться во всех этих чудесах.
— Да я с радостью приму такое доказательство. Если я сам не знал, что мудр, ты же докажешь, что я все знаю и знал всегда, выпадет ли за всю мою жизнь более счастливый случай?
— Отвечай же, — сказал он.
— Спрашивай, я буду отвечать.
— Итак, Сократ, — начал он, — ты знаешь что-либо или нет?
— Знаю, конечно.
— А знающим ты являешься благодаря тому, чем ты познаёшь, или по какой-то другой причине?
— Благодаря тому, чем я познаю. Ведь, полагаю, ты имеешь в виду душу? Или же нет?
— И тебе не стыдно, Сократ? На вопрос ты отвечаешь вопросом!
— Хорошо, — возразил я, — но как же мне поступать? Я буду делать так, как ты мне велишь. Когда я не понимаю, что ты от меня хочешь, ты все же велишь мне отвечать, не переспрашивая тебя?
— Да ведь что-то ты усваиваешь, — сказал он, — из того, что я говорю?
— Да, конечно, — отвечал я.
— Так на то и отвечай, что ты усвоил.
— Как же так? — возразил я. — Если ты, спрашивая, имеешь в виду одно, я же восприму это по-другому и соответствующим образом стану тебе отвечать, тебя удовлетворит такой несуразный ответ?
— Меня-то да, — сказал он, — тебя же, я думаю, нет.
— Так не стану же я, Зевс свидетель, отвечать, — возразил я, — пока все в точности не пойму.
— Ты никогда не отвечаешь, хоть и прекрасно все понимаешь, потому что ты болтун и донельзя отсталый человек!
И я понял, что он зол на меня за то, что я расчленяю выражения, в то время как он хотел поймать меня в словесные силки. Тут я вспомнил о Конне[42]: он ведь тоже сердится на меня всякий раз, как я ему не уступаю, и перестает заботиться обо мне, словно я какой-то тупица. А так как я задумал поступить в обучение и к Евтидему, то порешил, что необходимо ему уступить, дабы он не отказал мне, сочтя меня бестолковым учеником. Итак, я сказал:
— Пусть будет по-твоему, Евтидем, если ты того хочешь. Ты ведь во всех отношениях умеешь рассуждать лучше, чем я, человек простой и неискусный. Спрашивай же сначала.
— Отвечай же, — начал он, — сызнова: познаешь ли ты чем-либо то, что ты познаешь, или нет?
— Разумеется, познаю, — отвечал я, — а именно душою.
— Ты опять, — сказал он, — предвосхищаешь вопрос! Я ведь не спрашиваю тебя, чем именно ты познаешь, а лишь познаешь ли чем-то.
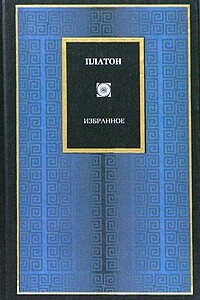
В центре «Апологии Сократа» (392 до н.э.) – первом законченном и дошедшем до нас тексте Платона – проблема несовместимости индивидуальной добродетели и существующего государственного устройства.

В диалоге «Федр» всего два собеседника, мирно сидящих под платанами у почти пересохшей летом реки Илис. Это Сократ и Федр.Тема их беседы напоминает «Пир», хотя здесь нет поисков сущности любви, но зато раскрывается ее неистовая, безумная сторона, ее роль в становлении души на путях блага и в создании подлинной философии, а не пустого красноречия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Диалог "Государство" по своим размерам, обилию использованного материала, глубине и многообразию исследуемых проблем занимает особое место среди сочинений Платона. И это вполне закономерно, так как картина идеального общества, с таким вдохновением представленная Сократом в беседе со своими друзьями, невольно затрагивает все сферы человеческой жизни — личной, семейной, полисной — со всеми интеллектуальными, этическими, эстетическими аспектами и с постоянным стремлением реального жизненного воплощения высшего блага.
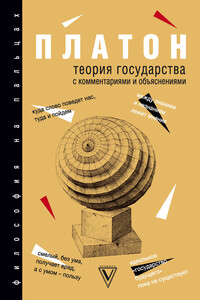
Древнегреческий философ Платон был учеником Сократа, которого высоко чтил, и учителем Аристотеля. Считая, что настоящая философия может существовать только при условии постоянного диалога, Платон и свои произведения написал в такой же форме, сделав главным героем Сократа и вложив в его уста собственные мысли. «Государство» Платона – первая в истории человечества попытка построить модель общества, в котором все были бы счастливы, и модель государства, где каждый бы делал то, что у него лучше получается.

Эта книга отправляет читателя прямиком на поле битвы самых ярких интеллектуальных идей, гипотез и научных открытий, будоражащих умы всех, кто сегодня задается вопросами о существовании Бога. Самый известный в мире атеист после полувековой активной деятельности по популяризации атеизма публично признал, что пришел к вере в Бога, и его взгляды поменялись именно благодаря современной науке. В своей знаменитой книге, впервые издающейся на русском языке, Энтони Флю рассказал о долгой жизни в науке и тщательно разобрал каждый этап изменения своего мировоззрения.

Немецкий исследователь Вольфрам Айленбергер (род. 1972), основатель и главный редактор журнала Philosophie Magazin, бросает взгляд на одну из величайших эпох немецко-австрийской мысли — двадцатые годы прошлого века, подробно, словно под микроскопом, рассматривая не только философское творчество, но и жизнь четырех «магов»: Эрнста Кассирера, Мартина Хайдеггера, Вальтера Беньямина и Людвига Витгенштейна, чьи судьбы причудливо переплелись с перипетиями бурного послевоенного десятилетия. Впечатляющая интеллектуально-историческая панорама, вышедшая из-под пера автора, не похожа ни на хрестоматию по истории философии, ни на академическое исследование, ни на беллетризованную биографию, но соединяет в себе лучшие черты всех этих жанров, приглашая читателя совершить экскурс в лабораторию мысли, ставшую местом рождения целого ряда направлений в современной философии.

Парадоксальному, яркому, провокационному русскому и советскому философу Константину Сотонину не повезло быть узнанным и оцененным в XX веке, его книги выходили ничтожными тиражами, его арестовывали и судили, и даже точная дата его смерти неизвестна. И тем интереснее и важнее современному читателю открыть для себя необыкновенно свежо и весело написанные работы Сотонина. Работая в 1920-е гг. в Казани над идеями «философской клиники» и Научной организации труда, знаток античности Константин Сотонин сконструировал непривычный образ «отца всех философов» Сократа, образ смеющегося философа и тонкого психолога, чья актуальность сможет раскрыться только в XXI веке.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В сегодняшнем мире, склонном к саморазрушению на многих уровнях, книга «Философия энтропии» является очень актуальной. Феномен энтропии в ней рассматривается в самых разнообразных значениях, широко интерпретируется в философском, научном, социальном, поэтическом и во многих других смыслах. Автор предлагает обратиться к онтологическим, организационно-техническим, эпистемологическим и прочим негэнтропийным созидательным потенциалам, указывая на их трансцендентный источник. Книга будет полезной как для ученых, так и для студентов.

I. Современный мир можно видеть как мир специалистов. Всё важное в мире делается специалистами; а все неспециалисты заняты на подсобных работах — у этих же самых специалистов. Можно видеть и иначе — как мир владельцев этого мира; это более традиционная точка зрения. Но для понимания мира в аспектах его прогресса владельцев можно оставить за скобками. Как будет показано далее, самые глобальные, самые глубинные потоки мировых тенденций владельцы не направляют. Владельцы их только оседлывают и на них едут. II. Это социально-философское эссе о главном вызове, стоящем перед западной цивилизацией — о потере ее людьми изначальных человеческих качеств и изначальной человеческой целостности, то есть всего того, что позволило эту цивилизацию построить.

Санкт-Петербург - город апостола, город царя, столица империи, колыбель революции... Неколебимо возвысившийся каменный город, но его камни лежат на зыбкой, болотной земле, под которой бездна. Множество теней блуждает по отражённому в вечности Парадизу; без счёта ушедших душ ищут на его камнях свои следы; голоса избранных до сих пор пробиваются и звучат сквозь время. Город, скроенный из фантастических имён и эпох, античных вилл и рассыпающихся трущоб, классической роскоши и постапокалиптических видений.
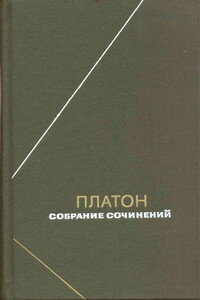
В первый том Собрания сочинений Платона входят ранние диалоги философа, относящиеся к периоду формирования его учения. Идея тома в целом - прослеживание пути становления платонизма. Все тексты заново отредактированы.
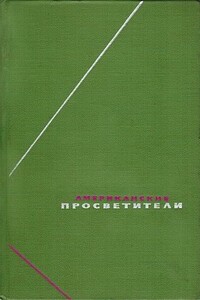
Первый том включает важнейшие произведения прославленного ученого, выдающегося моралиста Б. Франклина («Рассуждение о свободе и необходимости, удовольствии и страдании», «Путь к изобилию», автобиография и др.), героя освободительной войны Итэна Аллена («Разум — единственный оракул человека» — первый в Америке антирелигиозный трактат), видного ученого К. Колдена, развивавшего учение Ньютона («Принципы действия материи» и «Введение в изучение философии»), и основоположника американской психотерапии, борца против идеализма Б.
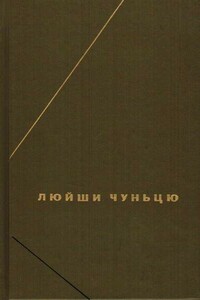
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

