Европа. Два некролога - [80]
И следовательно, искушение не может действовать в ста- рой«общезначимой» (фихтевской) версии, но соотносимо лишь с этим вот Я, откликающимся на имя Штирнер, или тем вот Я. называющимся Ницше, короче со всяким дозревшим до него конкретным Я. В словах: «Все царства, которые Ты видишь вокруг себя, Твои, если Ты признаешь во мне своего господина!», «во мне» означает: в трансцендентально–абсолютном Я фихтевской философии. Что на этом фихтевском эссенциальном Я должно было непременно сорваться любое экзистенциально–конкретное Я, ставило под вопрос не правомочность искушения, а только недостаточность познания. Раздутый до «дальше некуда» воздушный шар победителя должен был рано или поздно с адским шумом лопнуть, а его искушение обернуться на него самого. Философская судьба Люцифера после смерти Фихте и Гегеля, соответственно с появлением штирнеровского «Единственного» безостаточно заостряется в вопрос, способен ли он, достигший небывалых высот в головокружительных взлетах немецко–идеалистической философии, прочитать книгу Штирнера, без того чтобы принять автора за сумасшедшего. Если да, то его искушение перерождается в самоискушение.
Это обращенное на него самого искушение приводит его тогда к обращению. Обращение Люцифера называется: «Философия свободы». В этой книге древней змее — во исполнение на собственной шкуре обещания: будете, как Боги, — приходится помыслить следующую мысль: Я (= Люцифер) возможно лишь, поскольку оно мыслится. Ибо полагать Я началом познания можно лишь, сперва помыслив его как таковое. Абсолютно первое философов называется, поэтому, не Я (= Люцифер), а мышление. Но мышление производно от — мыслить.
Мышление, как орган, производится от глагола мыслить. Говоря иначе, мышление есть, если оно мыслится. Cogitatio qua cogitare. Кто же мыслит? Очевидно, «человек»: не «вообще» человек, а фактический, причем умеющий мыслить МЫСЛЯМИ МИРА, а не каталогом законсервированных в голове понятий, короче, некто NN. NN мыслит вещи мира как идеи (= сущность восприятий), но поскольку среди вещей мира он воспринимает и себя, как вещь sui generis, он мыслит и себя самого как идею, как предельное значение чувственно–сверхчувственного ряда: дерево там за окном — идея дерева, веник в углу комнаты — идея веника, смотрящий в окно или в угол человек
— идея человека. Но идея человека и есть Я (= человеческая сущность). Конкретный человек NN мыслит себя, как Я, не свое Я, а себя как Я, конкретного себя как Я, как таковое. Я, как таковое (= сущность человека, родовое понятие), есть идея, которуюне- кто человек мыслит не как понятие, а как свое тело. Подобно тому как естествоиспытатель возвышается над природой познанием природы, так и тот, кто мыслит идеи, включая идею Я, осознает себя господином над идеями. Что ускользает от змеи–дарительницы Я, так это то, что её старое лемурийское Я (в сущности, платоновская идея) нейтрально, т. е. страдает врожденным пороком среднего рода. Я, как оно («оно!»), — не больше, чем пустое понятие, которому, если оно не воплотится конкретно, грозит неизбежное вырождение в кантовскую формальную апперцепцию (или во фрейдовскоебессознательное: «das Es»). То, что опекаемое Люцифером Я не очутилось среди universalia post rem, было благодатью Голгофы. Опасность номинализма уже до Голгофы достигла таких масштабов, что следствием её стал великий страх Богов[133]. На Голгофе, месте рождения Единственного, опасность становится одолимой. Дар Люцифера после Голгофы — это уже не просто Я, как понятие, а Я, как ТЕЛО, по существу ТРУП, воскресший в ФАНТОМЕ[134]. Собственное имя Я отныне есть ХРИСТОС, и если искуситель Люцифер хочет, начитавшись Юма, избежать курьёза рассматривать свое Я, как пучок представлений, то ему придется взяться за дело серьезнее и равнять себя на более серьезную философию (Luciferus verus Christus).
Не он, стало быть, как содержание мысли NN, но сам мыслящий его NN есть творец его и господин. Люцифер, соблазняющий автора «Философии свободы» всеми царствами мира и славой их, упускает из виду, что «Философии свободы» неведом никакой мир, через предположительную славу царств которого она могла бы быть введена в искушение. С точки зрения «Философии свободы» мир лишен не только славы, но и вообще смысла и цели, покуда он не освоен в познании и не переделан в мастерскую моральных фантазий.
Поскольку же и гордый Бог Люцифер составляет часть мира, ему нельзя было бы пожелать лучшей участи, чем предоставить себя в распоряжение «Философии свободы» — в надежде, что он смог бы обрести в ней смысл, осознав в её перспективах свое «дьявольство», как жертву и технически необходимое отклонение в трудном ремесле миросозидания. Ибо в дезинфицированном ариманически мире ему не остается ничего иного, как выйти на пенсию и пугать пугливых однообразно–местечковыми полуимаги- нациями–полугаллюцинациями — в тоскливом ожидании случая, позволившего бы за этим пугалом философски познать и теософски задействовать его аутентичную сущность. Дилемма Люцифера после «Философии свободы»: либо он должен признать в её авторе собственного господина, чтобы гарантировать себе философски серьезное и перспективное будущее в наступающей теософии гётеанизма, либо участь его прозябать в мире научного позитивизма, довольствуясь время от времени крохами со всякого рода мистических и оккультических столов.
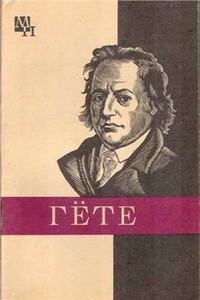
Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.

Лекция прочитанная в МГУ им. Ломоносова в 25 мая 2005 г. "Философии по большому счету, — нет. Исчезли философские проблемы. Философия была всегда последовательностью проблем, а сейчас этого вовсе нет. Все эти Деррида склонированы с Хайдеггера, которому принадлежит честь быть первым дезертиром западной философии. Великую и трагическую работу мысли более чем двух тысячелетий он свёл просто к какой-то аграрной мистике. Гуссерль именно этому ужаснулся в своем талантливом ученике. Хайдеггер — это что-то вроде Рильке в философии.

Если это диагноз, то путь от него ведет сначала назад к анамнезу и только потом уже к перспективам: самоидентификации или - распада. Немного острого внимания, и взору предстает картина, потенцируемая философски: в проблему, а нозологически: в болезнь. Что человек уже с первых шагов, делаемых им в пространстве истории, бьется головой о проблему своей идентичности, доказывается множеством древнейших свидетельств, среди которых решающее место принадлжеит дельфийскому оракулу "познай самого себя". Характерно, что он продолжает биться об нее даже после того, как ему взбрело в голову огласить конец истории, и сделать это там, где история еще даже толком не началась, хотя истории оттуда вот уже с полвека как задается тон.

Макс Нордау"Вырождение. Современные французы."Имя Макса Нордау (1849—1923) было популярно на Западе и в России в конце прошлого столетия. В главном своем сочинении «Вырождение» он, врач но образованию, ученик Ч. Ломброзо, предпринял оригинальную попытку интерпретации «заката Европы». Нордау возложил ответственность за эпоху декаданса на кумиров своего времени — Ф. Ницше, Л. Толстого, П. Верлена, О. Уайльда, прерафаэлитов и других, давая их творчеству парадоксальную характеристику. И, хотя его концепция подверглась жесткой критике, в каких-то моментах его видение цивилизации оказалось довольно точным.В книгу включены также очерки «Современные французы», где читатель познакомится с галереей литературных портретов, в частности Бальзака, Мишле, Мопассана и других писателей.Эти произведения издаются на русском языке впервые после почти столетнего перерыва.

В книге представлено исследование формирования идеи понятия у Гегеля, его способа мышления, а также идеи "несчастного сознания". Философия Гегеля не может быть сведена к нескольким логическим формулам. Или, скорее, эти формулы скрывают нечто такое, что с самого начала не является чисто логическим. Диалектика, прежде чем быть методом, представляет собой опыт, на основе которого Гегель переходит от одной идеи к другой. Негативность — это само движение разума, посредством которого он всегда выходит за пределы того, чем является.

В Тибетской книге мертвых описана типичная посмертная участь неподготовленного человека, каких среди нас – большинство. Ее цель – помочь нам, объяснить, каким именно образом наши поступки и психические состояния влияют на наше посмертье. Но ценность Тибетской книги мертвых заключается не только в подготовке к смерти. Нет никакой необходимости умирать, чтобы воспользоваться ее советами. Они настолько психологичны и применимы в нашей теперешней жизни, что ими можно и нужно руководствоваться прямо сейчас, не дожидаясь последнего часа.

На основе анализа уникальных средневековых источников известный российский востоковед Александр Игнатенко прослеживает влияние категории Зеркало на становление исламской спекулятивной мысли – философии, теологии, теоретического мистицизма, этики. Эта категория, начавшая формироваться в Коране и хадисах (исламском Предании) и находившаяся в постоянной динамике, стала системообразующей для ислама – определявшей не только то или иное решение конкретных философских и теологических проблем, но и общее направление и конечные результаты эволюции спекулятивной мысли в культуре, в которой действовало табу на изображение живых одухотворенных существ.
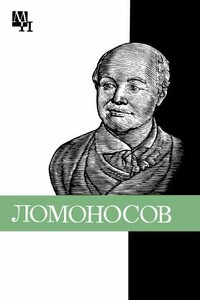
Книга посвящена жизни и творчеству М. В. Ломоносова (1711—1765), выдающегося русского ученого, естествоиспытателя, основоположника физической химии, философа, историка, поэта. Основное внимание автор уделяет философским взглядам ученого, его материалистической «корпускулярной философии».Для широкого круга читателей.

В монографии на материале оригинальных текстов исследуется онтологическая семантика поэтического слова французского поэта-символиста Артюра Рембо (1854–1891). Философский анализ произведений А. Рембо осуществляется на основе подстрочных переводов, фиксирующих лексико-грамматическое ядро оригинала.Работа представляет теоретический интерес для философов, филологов, искусствоведов. Может быть использована как материал спецкурса и спецпрактикума для студентов.