Евреи - [7]
Он застучал молотом, а Сима, постояв, не скажет ли Шлойма еще чего-нибудь, поплелась, медленно переступая.
День совсем наступил.
Люди, потные и озабоченные, шли нестройно, поддаваясь натиску сзади. Торговцы мелким товаром уже охрипли от криков. Торговки, устроившись на самодельных сидениях, собирались завтракать.
Шум переходил от больших лавок к рынкам. Пробегали конки, переполненные чиновниками, гимназистами, конторщиками; на дрожках разъезжали люди, которым здесь завидовали.
Усталость овладевала всеми – покупателями и торговцами. Из дворов уже неслись песни нищих, оплакивавших еврейскую жизнь трогательными, дрожащими голосами, – и они, как плач беззащитного ребенка, вызывали печаль в душе.
– Скажи Ему, – думал с сарказмом Шлойма, – сними с человека проклятие нищеты.
Кто-то тронул его за плечо.
– Ну вот, – пробормотал он, недовольный…
– Очень хорошо, – произнес глухим голосом худенький человек с плоскими плечами, протягивая Шлойме один палец, и тот его тронул своим, – вас я ищу. Вот видите этого человека, ради него вы мне нужны. Доброе утро, Шлойма. Стучите молотком? Стучите, стучите, – здесь ведь ужасно тихо.
Он засмеялся и раскашлялся скверным кашлем чахоточного, а кто-то подле него произнес крепким голосом, потирая руки:
– Веселенький день, честное слово. Хотел бы иметь половину того, что здесь раскрадут сегодня.
– Куда ты, Хаим? – произнес Шлойма когда чахоточный успокоился. – Кто это с тобою?
– Дайте передохнуть, Шлойма. Вы рассмотрели этого человека? Его зовут Нахманом. На днях он бросил службу, и, если бы вы знали почему, то даже ваш молоток покраснел бы. Теперь он решил сделаться торговцем в ряду и ищет компаньона. Может быть, вы знаете кого-нибудь?
Нахман стоял, потупившись, словно только что почувствовал стыд за себя. Шлойма внимательно посмотрел на него и пробормотал:
– У этого парня славное лицо.
– Я жду, Шлойма, – с нетерпением произнес чахоточный.
– Найдется человек. Зайди с ним ко мне вечером, и тогда поговорим. Что у тебя слышно? Куда ты сам бежишь?
– Бегу, – повторил чахоточный, – я бы летел, не будь пяти. Не слыхали моего счастья? Нет? Не может быть. Ведь мой лейпцигский билет выиграл двадцать четыре рубля! Что скажете, Шлойма? Одна пятерка помешала. Будь вместо нее шестерка, и вот в этом кармане теперь лежало бы десять тысяч марок. Положим, я таки не спал от досады всю ночь, но ведь уже началось. Уже началось, я вам говорю.
– Ну, а что слышно на фабрике? – спросил Шлойма.
– Фабрика все стоит. Что ей?
– А ребята?
– Ребята? Вы спрашиваете, как ребенок? Ребята голодают, дети голодают, женщины голодают…
– Ты сам не был замешан?..
– Я не такой дурак, – сухо выговорил он. – Я верю в лейпцигский билет. Я чахоточный, и жена моя стала чахоточной от этого проклятого табака, и теперь нам все равно, – слышите, все равно. Даже если бы город провалился. И я ни во что не мешаюсь. Они здоровые, молодые, смелые, а я боюсь. Я даже кровью начинаю плевать от страха Я хочу работать, как вы – жить. Но ребята меня не пускают, – я не иду. И ничего больше.
– Но ребята ведь правы?
– Конечно, слабый всегда прав. Я с женой вырабатываю копеек семьдесят или восемьдесят в день, но у нас нет детей, и мы хорошо приучили себя голодать. Дошло до того, что предложили тридцать копеек с тысячи папирос. Однако ничего не поможет, – мы сдадимся!
Он выкрикнул последние слова, и торговка, сидевшая недалеко, вдруг, словно в нее выстрелили, поднялась с места и подошла к нему.
– Вы говорите о папиросниках, об этих шарлатанах, разбойниках, – сразу волнуясь, начала она. – Мой сын ведь тоже с ними, будь он проклят! Мать не смеет говорить. Вы думаете, я не пошла бы донести, если бы не боялась его. Хорошо или плохо платят на фабрике, – но платят. Разве мне хорошо? Я зарабатываю сорок копеек за целый день на улице, – кто слышит от меня жалобу? Поднять голос на этих людей. На этих высоких людей. С кем эти шарлатаны хотят бороться?
– Вы тоже вмешались, – перебил ее с досадою Хаим.
– Пусти меня, – оборвала она его и обратилась к Шлойме. – Вы старый человек, – может быть, я сумасшедшая… Почему, в самом деле, не перерезать нас всех. Простак и бунтует. Нам ведь и не за спасибо, даже не знаю, за что, позволяют жить здесь, кормиться здесь, – можно ли нам бунтовать, смеем ли мы сказать громкое слово?
– Конечно, конечно, – поддержала ее с места соседка, толстая старуха: – мы должны жить и держать шапку в руках…
– Мы здесь у себя, – упрямо выговорил Нахман.
– Кто ты такой, – рассердилась женщина. – Мы? Кто мы, простак? Где у себя? Ты думаешь, что с дурою имеешь дело, если я торгую на базаре. Мы у себя, – повторила она. – У разбойников мы, – это даже грудной ребенок скажет. Ну, так нужно сидеть тихо, говорить тихо, думать тихо, чтобы никто нас не заметил. Понизили цены, – просите, шарлатаны! На коленях стойте и не вставайте, пока не выпросите. Семьи мучаются с большими и малыми детьми, и железное сердце разорвалось бы смотреть на них. Пройдитесь по домам, – услышите плач.
Вокруг нее стали собираться женщины, и лишь теперь, при свете солнца, одетые, как нищенки, они открылись во всей ужасающей отверженности. Будто потревоженные слепые, стояли они. Чем дальше говорила первая торговка, тем теснее прижимались они друг к другу, испуганные правдой ее слов, и качали головами и двигали руками, будто женщина говорила то самое, что каждая думала про себя, и что непременно нужно было сказать. Погрязшие в своих привычках, дикие, почти безумные, оторванные от мира и чуждые новой жизни, косные, – они готовы были закричать от страха, проклясть этих молодых, непокорных ни им, ни кому из людей. У каждой из них была своя вражда к молодежи, и теперь они предавали собственных сыновей, со всей страстью хранителей старого предания, уверенные, что поступают свято, что борются за лучшее. На их глазах менялась жизнь, ломала и коверкала вековые устои, но они, как мраморные памятники, оставались нетленными, и время было бессильно над ними. И, глядя на их серьезные враждебные лица, на ужас в глазах, страшно было подумать о насилиях, которые создали таких несокрушимых людей.
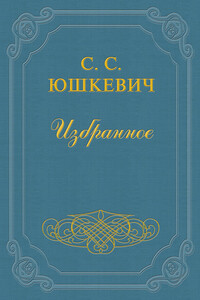
«С утра начался дождь, и напрасно я умолял небо сжалиться над нами. Тучи были толстые, свинцовые, рыхлые, и не могли не пролиться. Ветра не было. В детской, несмотря на утро, держалась темнота. Углы казались синими от теней, и в синеве этой ползали и слабо перелетали больные мухи. Коля с палочкой в руке, похожий на волшебника, стоял подле стенной карты, изукрашенной по краям моими рисунками, и говорил однообразным голосом…».

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».
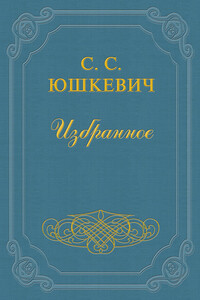
«Теперь наступила нелепость, бестолковость… Какой-то вихрь и страсть! Всё в восторге, как будто я мчался к чему-то прекрасному, страшно желанному, и хотел продлить путь, чтобы дольше упиться наслаждением, я как во сне делал всё неважное, что от меня требовали, и истинно жил лишь мыслью об Алёше. По целым часам я разговаривал с Колей о Настеньке с таким жаром, будто и в самом деле любил её, – может быть и любил: разве я понимал, что со мной происходит?».
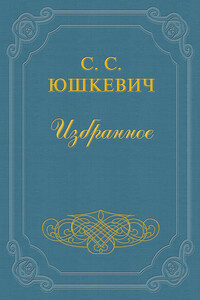
«Странный Мальчик медленно повернул голову, будто она была теперь так тяжела, что не поддавалась его усилиям. Глаза были полузакрыты. Что-то блаженное неземное лежало в его улыбке…».
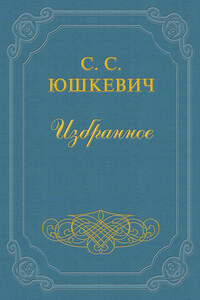
«Что-то новое, никогда неизведанное, переживал я в это время. Странная грусть, неясный страх волновали мою душу; ночью мне снились дурные сны, – а днём, на горе, уединившись, я плакал подолгу. Вечера холодные и неуютные, с уродливыми тенями, были невыносимы и давили, как кошмар. Какие-то долгие разговоры доносились из столовой, где сидели отец, мать, бабушка, и голоса их казались чужими; бесшумно, как призрак, ступала Маша, и звуки от её босых ног по полу казались тайной и пугали…».
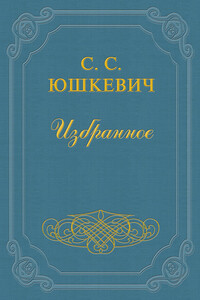
«И вдруг, словно мир провалился на глазах Малинина. Он дико закричал. Из-за угла стремительно вылетел грузовик-автомобиль и, как косой, срезал Марью Павловну. В колесе мелькнул зонтик.Показались оголенные ноги. Они быстро и некрасиво задергались и легли в строгой неподвижности. Камни окрасились кровью…».

Рассказ приоткрывает «окно» в напряженную психологическую жизнь писателя. Эмоциональная неуравновешенность, умственные потрясения, грань близкого безумия, душевная болезнь — постоянные его темы («Возвращение Будды», «Пробуждение», фрагменты в «Вечере у Клэр» и др.). Этот небольшой рассказ — своего рода портрет художника, переходящего границу между «просто человеком» и поэтом; загадочный женский образ, возникающий в воображении героя, — это Муза или символ притягательной силы искусства, творчества. Впервые — Современные записки.

Валерий Тарсис — литературный критик, писатель и переводчик. В 1960-м году он переслал английскому издателю рукопись «Сказание о синей мухе», в которой едко критиковалась жизнь в хрущевской России. Этот текст вышел в октябре 1962 года. В августе 1962 года Тарсис был арестован и помещен в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко. «Палата № 7» представляет собой отчет о том, что происходило в «лечебнице для душевнобольных».

Оборотничество, ликантропия, явления призраков из потустороннего мира, круговорот душ и диктат рока — таковы темы мистическо-фантастических произведений Поля Виолы, разворачивающихся на фоне странных «помещичьих гнезд» Полесья. Под псевдонимом «Поль Виола» (Paul Viola) в печати выступал киевский поэт, прозаик и переводчик П. Д. Пихно (1880–1919). Его рассказ «Волчица» и повесть «Мраморное поместье», вошедшие в настоящую книгу, переиздаются впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.