Если бы не друзья мои... - [99]
— Ты что же, Саша, боишься, что опять начнешь заикаться?
— Нет, не боюсь. Но тошнота подкатывает к горлу. И еще больше, чем тогда, хочется мыть то место, которого Крамец коснулся.
Степан Шумов очень скоро почувствовал себя в немецком мундире как в собственной шкуре. К тому же он еще раздобыл где-то пустую потертую кобуру и повесил ее на узенький ремешок, подпоясывавший брюки галифе с широкими кожаными полосами на заду. С большинства военнопленных жизнь в лагерях смыла все наносное, чуждое. Но Степа был замешен на других дрожжах. Он даже не замечал враждебных взглядов, гордо задирая голову, плотно сжимал губы — не губы, а две узкие, ядовитые змейки.
Однажды утром Степан проснулся, потянулся к ремню, к кобуре, но его холуйские регалии исчезли. Кого бы он ни спросил, никто ничего не знал. Меня в это время не было, но к Саше Мурашову, рассказывали мне, он приставал: кто, мол, дежурил, тот и виноват.
В ответ Саша потянулся, широко, со смаком зевнул, плюнул сквозь зубы, сунул Шумову под нос кулак и предложил понюхать, чем он пахнет. А немного придурковатый Петя, который, стоит кому-нибудь его обидеть, немедленно призывал на помощь Мурашова, на этот раз, забыв об осторожности, показал и свой грязный, но увесистый кулак.
Меня Шумов нашел на чердаке.
— А ну, докладывай, — толкнул он меня, — да поскорей: кто взял ремень?
— О чем ты? — не понял я, чего ему от меня надо. Он заглянул во все самые укромные уголки чердака и уже с лестницы крикнул:
— Лучше не валяй дурака, жид пархатый!
Позже я узнал, что Крамец приказал ему снять кобуру. Поскольку предупреждения не помогли, главврач ночью, когда все спали, забрал кобуру вместе с ремнем.
Как бы то ни было, спать я уже больше не мог. Значит ли это, что Шумов слышал разговор Губерта с Гюнтером в вагоне? А может, Аверов ему рассказал? Э, нет! Верил бы Шумов, что я еврей, он бы уже давно схватил меня и передал Крамецу, что называется, из рук в руки.
Правда, вроде бы в шутку, он у меня уже не раз спрашивал, не еврей ли я. С чего все началось, я прекрасно помню, словно это вчера было.
Первая военная зима. Могилевский лагерь. Канун Нового года. Лютая стужа. И вот однажды в сером предрассветном сумраке, когда по палате невозбранно гулял с разбойным посвистом морозный ветер, у раскаленной печурки собрались мы, санитары второй палаты, где лежали сыпнотифозные больные, и рассказывали друг другу всякие были и небылицы. Мимо нас прошел, странно припадая на одну ногу, больной. Сам он кожа да кости, а шинель — мозаика из разноцветных заплат. Длинная вереница таких людей промелькнула за это время передо мной, не оставив следа в памяти. Но этого я запомнил.
— Погляди, какая «лата», — обратился я тогда к Степе.
Поначалу он улыбнулся, потом отчужденно и строго взглянул на меня, процедил сквозь зубы:
— Это что еще за слово? Еврейское?
К пакостям Шумова я уже и тогда привык, но наивно полагал, что вместе с предрассветными тенями навсегда исчезнет и забудется этот вопрос, таящий смертельную угрозу для меня. Оказывается…
Два-три дня прошло с тех пор, как у Шумова пропала кобура. Был тот сумеречный час, когда дали наливаются вечерней синевой. Зачем-то я шел в комнату, где мы жили. В коридоре меня остановил Петя и шепотом сообщил:
— Поди посмотри, какой подарочек Шумов тебе приготовил.
У двери стоит истуканом Степан. Хочется перехватить его взгляд, но не удается. Следом за мной идет Петя. «Подарочек» я вижу еще издалека, но стараюсь ничем не выдать волнения, только веки слегка вздрагивают. На моей наре лежит фашистский плакат на русском языке. В центре — звезда Давида с головой человека в цилиндре. Один глаз полузакрыт. Правой рукой он поглаживает редкую бороденку. На плакате — несколько десятков подлых вопросов. После каждого вопроса один ответ: «Еврей».
По-видимому, чтобы ветер, врывающийся через выбитые окна, не унес плакат, Шумов положил на него несколько битых кирпичей. В комнате напряженная тишина. Ясно одно, смолчать нельзя. Нагибаюсь, будто для того, чтобы лучше рассмотреть плакат, хватаю обломок кирпича, резким, молниеносным движением выпрямляюсь и, поворачиваясь, что есть сил швыряю его в Шумова, который все еще стоит у порога. Степан судорожно глотает воздух и выплевывает выбитый зуб вместе с кровью. Он бросается ко мне. Но между нами вырастает Аверов.
— Ни с места! — кричит он. — Кто начнет драку, тому я самолично ребра пересчитаю. — Его глубоко посаженные черные, как смола, глаза внимательно смотрят на нас сквозь облачко дыма, вьющегося над его сигарой. Немного помедлив, он выносит приговор: — Теперь вы квиты.
Вокруг нас собрались почти все санитары. Разноголосый шум. Откровенно любопытные взгляды. Шумов не перестает сплевывать розовую, как малиновый сок, слюну и грозится, что будет жаловаться Карлу. На это Мурашов с нескрываемой угрозой отвечает:
— Попробуй. Только не советую. За такие фокусы у нас в Казани с тобой бы разделались, как повар с картошкой.
Петя, чьи темно-голубые глаза всегда кажутся заплаканными, сейчас широко улыбается. Он спрашивает с издевкой:
— У нас в Казани? — И сам себе отвечает: — Еще бы.

Творчество известного еврейского советского писателя Михаила Лева связано с событиями Великой Отечественной войны, борьбой с фашизмом. В романе «Длинные тени» рассказывается о героизме обреченных узников лагеря смерти Собибор, о послевоенной судьбе тех, кто остался в живых, об их усилиях по розыску нацистских палачей.
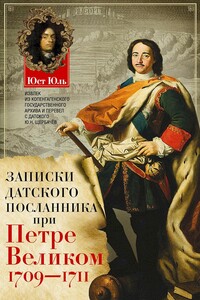
В год Полтавской победы России (1709) король Датский Фредерик IV отправил к Петру I в качестве своего посланника морского командора Датской службы Юста Юля. Отважный моряк, умный дипломат, вице-адмирал Юст Юль оставил замечательные дневниковые записи своего пребывания в России. Это — тщательные записки современника, участника событий. Наблюдательность, заинтересованность в деталях жизни русского народа, внимание к подробностям быта, в особенности к ритуалам светским и церковным, техническим, экономическим, отличает записки датчанина.

«Время идет не совсем так, как думаешь» — так начинается повествование шведской писательницы и журналистки, лауреата Августовской премии за лучший нон-фикшн (2011) и премии им. Рышарда Капущинского за лучший литературный репортаж (2013) Элисабет Осбринк. В своей биографии 1947 года, — года, в который началось восстановление послевоенной Европы, колонии получили независимость, а женщины эмансипировались, были также заложены основы холодной войны и взведены мины медленного действия на Ближнем востоке, — Осбринк перемежает цитаты из прессы и опубликованных источников, устные воспоминания и интервью с мастерски выстроенной лирической речью рассказчика, то беспристрастного наблюдателя, то участливого собеседника.

«Родина!.. Пожалуй, самое трудное в минувшей войне выпало на долю твоих матерей». Эти слова Зинаиды Трофимовны Главан в самой полной мере относятся к ней самой, отдавшей обоих своих сыновей за освобождение Родины. Книга рассказывает о детстве и юности Бориса Главана, о делах и гибели молодогвардейцев — так, как они сохранились в памяти матери.
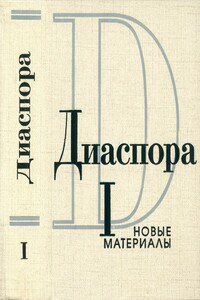
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поразительный по откровенности дневник нидерландского врача-геронтолога, философа и писателя Берта Кейзера, прослеживающий последний этап жизни пациентов дома милосердия, объединяющего клинику, дом престарелых и хоспис. Пронзительный реализм превращает читателя в соучастника всего, что происходит с персонажами книги. Судьбы людей складываются в мозаику ярких, глубоких художественных образов. Книга всесторонне и убедительно раскрывает физический и духовный подвиг врача, не оставляющего людей наедине со страданием; его самоотверженность в душевной поддержке неизлечимо больных, выбирающих порой добровольный уход из жизни (в Нидерландах легализована эвтаназия)

У меня ведь нет иллюзий, что мои слова и мой пройденный путь вдохновят кого-то. И всё же мне хочется рассказать о том, что было… Что не сбылось, то стало самостоятельной историей, напитанной фантазиями, желаниями, ожиданиями. Иногда такие истории важнее случившегося, ведь то, что случилось, уже никогда не изменится, а несбывшееся останется навсегда живым организмом в нематериальном мире. Несбывшееся живёт и в памяти, и в мечтах, и в каких-то иных сферах, коим нет определения.