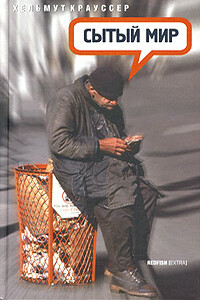Эрос - [12]
– Три недели постельного режима…
– Три недели?! Вот дьявольщина!
Я слышал, как он встал и принялся нервно расхаживать по зимнему саду.
– На карту поставлено слишком многое! Я не могу отклонить визит министра из-за какой-то… какой-то детской болезни! Алекса необходимо отправить в клинику. Иначе он заразит тут все, что только можно.
– В наше время ни одна клиника не выделит койки для мальчика с ветрянкой.
– Предоставь это дело мне! В конце концов, мы – все еще мы.
Так началась очередная глава моей биографии, до предела начиненная абсурдом. Представляете, с помощью связей и энного количества денег отец действительно устроил меня в больницу Третьего Ордена на Менцингерштрассе в Нимфенбурге. И вот я лежу в мрачной палате с голыми стенами и высоким потолком. Над каждой из пяти коек висит по черному распятию, тускло поблескивающему медью и золотом. На четырех кроватях лежат раненые, искалеченные мужчины, на пятой валяюсь я.
До меня дошли слухи, что ветрянкой заболела и Софи. Кто именно из нас кого заразил, осталось загадкой. Но в том, что Софи теперь возненавидит меня, не оставалось никакого сомнения. Я находился в аду.
Мама и сестренки навещали меня два раза в неделю. Попугайчики должны были держаться на почтительном расстоянии от моей постели.
– Отец не может прийти к тебе и очень сожалеет об этом, но уверен, что ты его поймешь. Он служит Германии.
Незабываемая картина: моя милая мама у больничной койки, за ее спиной близняшки, они принесли мне пудинг, кексы, шоколад и собственный рисунок, на котором изображен мальчик с лицом, усеянным крупной красной сыпью. Вокруг – раненые, травмированные мужчины, безотрывно глядящие на пудинг и кексы. Только шоколад я оставил себе, остальное все раздал.
В те дни я наслушался историй, которые были явно мне не по возрасту.
«Затем мы пришли на хутор. Иваны уже ушли. Никого из дозора они не оставили в живых, а одному парню даже отрезали яйца и прибили их на дверь сарая».
Вот такие ужасы. Правда, многое рассказывалось, похоже, лишь для того, чтобы нагнать на меня страху. Это были грубые, неотесанные люди, ожесточенные и разочарованные жизнью или, точнее сказать, войной.
К нашей палате прикрепили двух медсестер Агнес нравилась мне, а другая, Криста, была старой и злобной каргой. Агнес ухаживала за нами днем, а Криста работала в ночную смену.
– Так, господа, все закончили свои дела? Значит, выключаем свет! Здесь не курят. А вы, юный господин, не соизволите ли больше не ссать в кровать, а то живо заверну в пеленки!
Ведьма паршивая! Однако и сюда проникали лучи света. Момент, когда сестричка Агнес обтирала нас нагретой гигиенической тряпочкой, являлся главным событием дня для всех без исключения пациентов. У всех вставало; даже у лейтенанта Кролльмана поднималось то немногое, что осталось после осколочного ранения в пах.
На больничной койке я провел две недели. Агнес баловала меня, интересовалась моим самочувствием, ведь сыпь почти прошла. Это была веселая ловкая девушка с легким берлинским акцентом.
– Еще каких-то пять деньков, и тебя выпишут домой, – с улыбкой сообщила она.
Но время ускорило события. В тот же день, третьего ноября, в больничное здание угодила бомба. По воздушной тревоге началось перемещение пациентов в подвал, но это оказалось не так-то просто сделать и требовало гораздо больше временя, чем нам было отпущено до начала бомбежки. Помню больных, из последних сил ковыляющих по коридору в убежище, калек, толкающихся и ударяющихся о стены, лишь бы поскорее достичь безопасного места. Я молился. Но не святой Марии.
Я молился Софи, священной Софи. «Благословен плод чрева твоего; светлый лик твой всегда надо мной». Грохотал гром. Недавно пристроенный восточный флигель госпиталя был полностью разрушен. Из подвала доносились крики и стоны. А потом, после налета, по коридору потянулась молчаливая, полубесчувственная процессия пациентов, снова направлявшихся в свои палаты, на месте многих из которых теперь дымились руины. Посреди главного холла на носилках лежали убитые. Среди них, рядом, сестра Криста и сестра Агнес. В тот день я понял, что Бога нет.
Спустя сутки меня выписали домой как «почти здорового»: не хватало мест для гораздо более тяжелых больных. Телефонная связь не работала. До Ледяного дворца я добирался три километра пешком.
Пока я шел, видел обгорелые трупы. Многие выглядели так, словно чья-то неумелая рука вырезала их из угольной глыбы. Только представьте себе: до сих пор я никогда не видел покойников. И вместе с тем можно сказать, что мне повезло: эти мертвецы больше походили на мумии египетских фараонов из учебника с черно-белыми фотографиями. А ведь мне могли встретиться гораздо более страшные вещи.
Когда отец увидел меня, он заплакал от счастья. Сказал, что любит меня, однако обнять даже не подумал. Меня ожидала ссылка в комнату, со всем мыслимым комфортом. На следующий день Мюнхен бомбила едва ли не тысяча самолетов, но судьба вновь пощадила наш дом.
То, о чем рассказывал фон Брюккен, вступало в странное противоречие с тем, как он рассказывал. Тон его был поразительно бесстрастным, почти монотонным, без каких-либо замедлений или ролевой игры, с помощью которых рассказу можно придать саркастические или трагические нотки. Как ни удивительно, подобный отказ от драматизации придавал истории этого человека особенную глубину и достоверность. Через какое-то время я стал слушать более рассеянно, но вовсе не потому, что стало скучно, наоборот, я, казалось, впал в состояние транса и стал, скорее, ощущать слова моего собеседника, чем слышать их.