Экспедиция в Западную Европу сатириконцев: Южакина, Сандерса, Мифасова и Крысакова - [12]
– Митя! – сказали мы, поднявшись в башмачное отделение. – Этот магазин очень велик, и тут легко заблудиться и потеряться. Ты парень, может быть, и неглупый, да только не на немецкой почве. Поэтому сядь вот тут за столиком в ресторанном отделении, попроси стакан чаю и жди нас.
– Слушаю-с, – сказал он, смотря в потолок. – Ой-ой, как тут высоко…
– Митя! – строго крикнул Крысаков. – Опять?!
– Что, Алексей Александрыч?
– «Что»… Будто я не знаю. Я тебя насквозь вижу!
– Простите… И откуда вы все знаете? Я всего только одну кружечку выпью. Мюнхенского. Чаю не хочется. Удивительно – только подумаешь, а вы уже знаете.
– Ну, ладно. Только одну кружечку, не больше.
Мы оставили его за столиком, ушли в бельевое отделение – и больше его не видели. Вернулись, нашли столик пустым, обегали все этажи, но так как у Вертгейма миллион закоулков – пришлось махнуть на поиски рукой, надеясь на то, что каким-нибудь образом добрался Митя до нашей гостиницы и ждет нас в номере.
Увы! Его не было там; он не пришел и вечером; не пришел на другой день. Мы заявили полиции, сделали публикацию в трех берлинских газетах – о Мите не было ни слуху, ни духу. А на третий день нам уже нужно было ехать дальше, в Дрезден. Мы оставили консулу некоторые распоряжения, немного денег и, полные мрачных предчувствий и грусти – уехали. Что же делал Митя?
Оставшись один, он выпил кружку пива, потом еще одну, и еще; мир показался ему светлым, радостным, а люди добрыми и благожелательными.
– Пока мои хозяева вернутся – пойду-ка я полюбуюсь на магазин. Я думаю, они не рассердятся.
Он нацарапал карандашом на мраморном столике (мы не заметили тогда этой надписи):
«Немножко я погуляю пока звините скоро завернусь пейте хорош, пиво Саветую. Прият, опетита. Ваш слу. Митя».
После этого Митя принялся бродить по галереям, спускаясь с каких-то лестниц, подымаясь куда-то на лифте и заглядывая во все закоулки.
Не прошло и получаса, как Митя должен был убедиться, что он заблудился. Он искал ресторан – ресторан как в воду канул.
Он остановил какого-то покупателя, с целью спросить, где ресторан, но тут же вспомнил, что не знает, как по-немецки ресторан…
Хмель выскочил из головы, и Митя почувствовал, что тонет.
У него было два выхода: или найти нас, или отправиться в гостиницу; но второе было не исполнимо – он не знал названия гостиницы.
Всему виной было его неуместное франтовство. Предусмотрительный Крысаков по приезде в Берлин заставил Сандерса изготовить следующий плакат на немецком языке для ношения на груди:
«Добрые туземцы! То, на чем навешен этот плакат, принадлежит нам, четырем чужестранцам, и называется слугой Митей. Если он потеряется – доставьте этого человека Отель Бангоф, № 26. Просят обращаться ласково; от жестокого обращения хиреет».
Плакат был составлен очень мило, наглядно, но, как я сказал выше, в Митю вселился бес франтовства: он категорически отказался от вывешивания на груди плаката.
– Почему же? – увещевал его Крысаков. – Хочешь, мы сделаем приписку, как в скверах: «волос не рвать, на велосипедах по нем не ездить».
Митя отказался – и теперь жестоко платился за это.
Долго бродил он, усталый, измученный, по разным лестницам и отделениям. Теперь он желал только одного: найти выход на улицу.
Но это было не так-то легко. Митя, шатаясь от усталости, ходил между чуждыми ему людьми, наполнявшими магазин, и призрак голодной смерти рисовался ему в чужом городе, в громадном магазине, среди чужих, не понимавших его людей.
Один раз он остановил покупательницу и попытался навести справки о выходе:
– Мейн герр! Битте цаллен. Их либе зи. Нищенский запас немецких слов, имевшийся в его распоряжении, связывал его мысль; и весь разговор его, волей-неволей, должен был вращаться в сфере ресторанных или сердечных представлений.
Дама изумленно посмотрела на растрепанного Митю, пробормотала что-то и нырнула в толпу.
– Гм… – печально подумал Митя. – Не понимает. Он обратился к господину:
– Где выход, а? Такой, знаете? Дверь, дверь! Понимаете?
– Was?
– Я говорю, выход. Гиб мир эйн кусс. Битте цаллен. Цузамен.
Господин задрожал от страха и убежал.
Бродил Митя так до вечера; покупатели стали редеть, зажглись огни… Мучимый голодом Митя заметил около одной покупательницы на стуле коробку конфет; потихоньку стащил ее, забрался в укромный уголок чемоданного отделения, съел добычу – и сон сморил его.
Только утром нашли его; он спал, положив под голову пустую раздавленную коробку из-под конфет, и на лице его были видны следы ночных слез. Бедный Митя…
Вот что последовало за этим: сердобольные продавщицы накормили его, одна из них поговорила с ним по-русски, выяснила положение, но так как нашего адреса Митя не знал, то дальнейший путь его жизни резко разошелся с нашим.
Мы уехали в Дрезден, а Митя, поддержанный вертгеймовскими продавщицами, которые были очарованы его простодушным немецким разговором и веселостью нрава, Митя открыл торговлю: стал продавать газеты, спички и букетики цветов – одним словом, все то, сбыт чего не требовал знания тонкостей немецкого диалекта.
Только на обратном пути в Россию отыскали мы через вертгеймовских продавщиц нашего Митю; он сначала встретил нас презрительно, потом обрушился на нас с упреками, а в конце концов расплакался и признался, что хотя богатство и прельщает его, но родину он не забывает и, вернувшись, сделает для нее все, что может.

Как отметить новогодние праздники так, чтобы потом весь год вспоминать о них с улыбкой? В этой книге вы точно найдёте пару-тройку превосходных идей! Например, как с помощью бутылки газировки победить в необычном состязании, или как сделать своими руками такой подарок маме, которому ужаснётся обрадуется вся семья, включая кота, или как занять первое место на конкурсе карнавальных костюмов. Эти и другие весёлые новогодние истории рассказали классики и современники — писатели Аркадий Аверченко, Михаил Зощенко, Н.
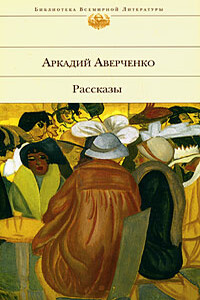
Аркадий Аверченко – «король смеха», как называли его современники, – обладал удивительной способностью воссоздавать абсурдность жизни российского обывателя, с легкостью изобретая остроумные сюжеты и создавая массу смешных положений, диалогов и импровизаций. Юмор Аверченко способен вызвать улыбку на устах даже самого серьезного читателя.В книгу вошли рассказы, относящиеся к разным периодам творчества писателя, цикл «О маленьких – для больших», повесть «Экспедиция в Западную Европу сатириконцев…», а также его последнее произведение – роман «Шутка мецената».

Жанр святочных рассказов был популярен в разных странах и во все времена. В России, например, даже в советские годы, во время гонений на Церковь, этот жанр продолжал жить. Трансформировавшись в «новогоднюю сказку», перейдя из книги в кино, он сохранял свою притягательность для взрослых и детей. В сборнике вы найдёте самые разные святочные рассказы — старинные и современные, созданные как российскими, так и зарубежными авторами… Но все их объединяет вера в то, что Христос рождающийся приносит в мир Свет, радость, чудо…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Среди мистификаций, созданных русской литературой XX века, «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом“» (1910) по сей день занимает уникальное и никем не оспариваемое место: перед нами не просто исполинский капустник длиной во всю человеческую историю, а еще и почти единственный у нас образец черного юмора — особенно черного, если вспомнить, какое у этой «Истории» (и просто истории) в XX веке было продолжение. Книга, созданная великими сатириками своего времени — Тэффи, Аверченко, Дымовым и О. Л. д'Ором, — не переиздавалась три четверти века, а теперь изучается в начальной школе на уроках внеклассного чтения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.