Эфиопика - [2]
Эта архаизирующая тенденция придавала литературным произведениям оттенок холодного академизма и эпигонства. Сам автор термина «вторая софистика» был видным представителем аттицизма. В расширенном значении мы применяем этот термин и к предшествовавшему периоду азианского красноречия: несмотря на изменение стиля, суть софистической риторики оставалась той же, и аттическая лексика могла сочетаться с азианскими приемами и эффектами речи. В эту эпоху проза, например историография, принимала поэтическую дикцию, поэзия уклонялась в риторику. Конечно, творческая индивидуальность каждого большого мастера накладывала свой отпечаток на господствующий стиль литературы: такой крупный писатель, как Плутарх, выработал собственный стиль, отличный от господствовавшего вкуса, а ренегат софистики Лукиан осмеивал ее, пользуясь ее же приемами.
Может вызвать недоумение, почему особенности ораторского искусства оказались определяющими для всех видов литературы.
Объясняется это тем, что письменная словесность древних была в то же время и устной, в том смысле, что она звучала и, следовательно, термин красноречие применим и к ней. Ведь древние чаще всего читали вслух – чтение про себя имело место реже, как в наше время чтение нот без помощи голоса или инструмента.
Обучение красноречию предусматривало овладение, с практическим уклоном, всем тем, что мы теперь называем теорией словесности или даже шире – вообще гуманитарными знаниями.
В позднюю эпоху отступили на задний план такие важные предметы древнегреческого воспитания, как гимнастика и музыка. Образование получило формальное направление. Оно состояло в изучении древних образцов, иногда даже в заучивании наизусть и в самостоятельных упражнениях как учителей, так и учеников. Характерными видами упражнений были: 1) экфраза, то есть описание предметов искусства или природы. Примером мастерских экфраз являются дошедшие до нас «Картины» Филострата: требовалось немалое искусство для словесного воплощения зрительных впечатлений; 2) этопея, то есть изображение характера человека, его душевного склада, обнаруживающегося преимущественно в критических обстоятельствах, которые для этого и придумывались самим упражняющимся. Для подобного рода заданий существовала стереотипная формулировка: «что сказал бы такой-то (или такая-то), если бы» и т. д., например: «что могла бы сказать разбойникам похищенная ими девушка, разлученная со своим любимым?» Этопея может принять и форму писем того или иного лица.
В дошедших до нас античных руководствах по красноречию приводятся, в разной классификации и под различными наименованиями, примеры учебных заданий: тут будут и философские тезы, и передача содержания театральных пьес – ипотезы, и судебные контроверсии и иные прогимнасматы. Риторический рассказ, по одному римскому руководству I века до н. э., то есть из времен еще далеких от второй софистики, должен заключать в себе «несходные характеры, серьезность, легкомыслие, надежду, страх, подозрение, тоску, притворство, сострадание, разнообразие событий, перемену судьбы, нежданное бедствие, внезапную радость, приятный исход событий».
Автор руководства имеет в виду собственно судебную речь, где оратору приходилось излагать обстоятельства обсуждаемого дела, но мы бы отнесли рассказ, построенный по его указанию, уже к беллетристике (ведь и самый термин «беллетристика» не что иное, как вариант стародавнего слова «красноречие»). Здесь не хватает только любви, хотя такие моменты, как «тоска, надежда», чаще всего представляются ее спутниками. Была ли у древних беллетристика в нашем смысле? Известно, что все наши литературные жанры восходят к грекам; об этом свидетельствуют уже их названия: лирика, эпос, драма, трагедия, комедия, ода, элегия, эпиграмма. Но для любовной прозаической повести или романа нет греческого термина.
Литература классического и эллинистического периода их не знала, хотя отдельные романические элементы можно найти и там, как предвестие будущего развития этого жанра. Роман возник в позднюю эпоху греческой литературы, он был как бы незаконным детищем второй софистики, его рождению способствовало уменье воплощать в слове разного рода воображаемые ситуации, применяя при этом наблюдения, почерпнутые из жизни. Все же прозаические любовные повествования большого объема не были свойственны софистическим упражнениям и не предусматривались руководствами по поэтике и риторике. Так обстояло дело на верхах литературы.
Существовала, однако, еще и низовая литература, имевшая хождение среди менее взыскательных читателей. Она до нас не дошла, и свидетельства о ней крайне скудны и разрозненны. Во II веке до н. э. Аристид из Милета составил на фольклорной основе «Милетские повести» нескромного содержания. Они вскоре были переведены на латинский язык Сизенной, что несколько неожиданно для такого серьезного историка. По своей композиции «Милетские повести» еще не были цельным романом. Об их содержании можно судить по Апулею, подражавшему им в «Золотом осле», а также по новелле «Эфесская матрона» в «Сатириконе» Петрония. О распространенности «Милетских повестей» говорит следующий факт: после битвы при Каррах победители-парфяне обнаружили в захваченном ими багаже римских командиров эти книжки и сделали невыгодные заключения о моральном, а следовательно, и воинском облике римлян. Не только парфяне, но и сами римляне, в лице Септимия Севера, считали, что военным людям не годится такое чтение.
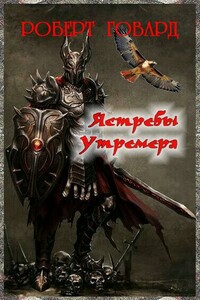
Ирландский рыцарь Кормак Фицджеффри вернулся в государства крестоносцев на Святой Земле и узнал, что его брат по оружию предательски убит. Месть — вот всё, что осталось кельту: виновный в смерти его друга умрет, будь он даже византийским императором.
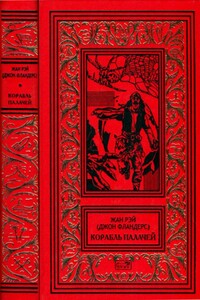
Выдающийся бельгийский писатель Жан Рэй (настоящее имя — Раймон Жан Мари де Кремер) (1887–1964) писал на французском и на нидерландском, используя, помимо основного, еще несколько псевдонимов. Как Жан Рэй он стал известен в качестве автора множества мистических и фантастических романов и новелл, как Гарри Диксон — в качестве автора чисто детективного жанра; наконец, именем «Джон Фландерс» он подписывал романтические, полные приключений романы и рассказы о море. Исследователи творчества Жана Рэя отмечают что мир моря занимает значительное место среди его главных тем: «У него за горизонтом всегда находится какой-нибудь странный остров, туманный порт или моряки, стремящиеся забыть связанное с ними волшебство в заполненных табачным дымом кабаках».

Однажды утром древлянский парень Берест обнаружил на свежей могиле киевского князя Игоря десятки тел – то княгиня Ольга начала мстить убийцам мужа. Одним из первых нанес удар по земле древлян юный Лют, сын воеводы Свенельда. Потеряв всех родных, Берест вознамерился отомстить ему. Не раз еще в сражениях Древлянской войны пересекутся пути двух непримиримых противников – в борьбе за победу и за обладание мечом покойного Игоря, который жаждет заполучить его сын и наследник Святослав.
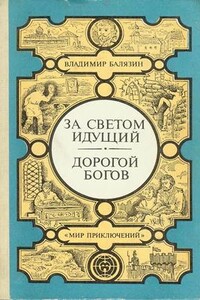
В историко-приключенческих произведениях В. Н. Балязина, написанных для детей старшего возраста, в увлекательной форме рассказывается о необыкновенных приключениях и путешествиях. Судьба забрасывает героев в различные части мира, их перипетии описываются на фоне конкретных исторических событий.
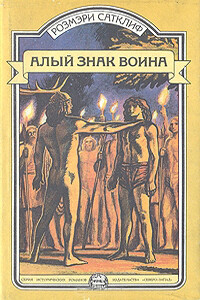
Повести известной английской писательницы, посвященные истории Англии. Первая повесть переносит читателя в бронзовый век, вторая - во второй век нашей эры. В обеих повестях, написанных живым, увлекательным языком, необыкновенно ярко и точно показаны нравы и обычаи тех далеких времен.
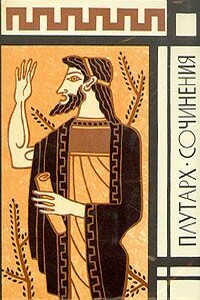
В однотомник выдающегося древнегреческого мыслителя Плутарха (46-120 гг. н. э.) вошли его трактаты, освещающие морально-этические вопросы — «Наставления о государственных делах», «О подавлении гнева», «О сребролюбии», «О любопытстве» и другие, а также некоторые из «Сравнительных жизнеописаний»: «Агесилай и Помпей», «Александр и Цезарь», «Демосфен и Цицерон».
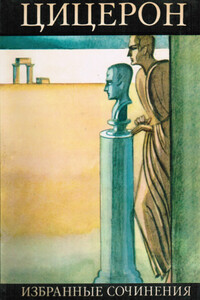
Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до н. э.) был выдающимся политическим деятелем, философом и теоретиком ораторского искусства, но прежде всего он был оратором, чьи знаменитые речи являются вершиной римской художественной прозы. Кроме речей, в настоящий том «Библиотеки античной литературы» входят три трактата Цицерона, облеченные в форму непринужденных диалогов и по мастерству не уступающие его речам.
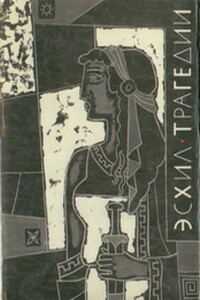
Эсхила недаром называют «отцом трагедии». Именно в его творчестве этот рожденный в Древней Греции литературный жанр обрел те свойства, которые обеспечили ему долгую жизнь в веках. Монументальность характеров, становящихся от трагедии к трагедии все более индивидуальными, грандиозный масштаб, который приобретают мифические и исторические события в каждом произведении Эсхила, высокий нравственный и гражданский пафос — все эти черты драматургии великого афинского поэта способствовали окончательному утверждению драмы как ведущего жанра греческой литературы в пору ее наивысшего расцвета.

